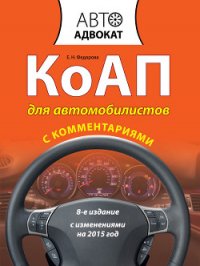На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной - Федорова Евгения (электронные книги без регистрации txt) 📗
– Это вы сделали?
Раиса Осиповна выступала с ответом:
– Ну что вы, гражданин начальник, разве мы похожи на людей, способных портить стены?
Вельзевул выскакивал вон, не находя достойного ответа.
Однажды ему повезло. Это случилось в его дежурство, в то время, когда мы уже вполне обжились в Бутырках. Уже несколько дней к нам в стену кто-то упорно и настойчиво постукивал. Конечно, Раиса Осиповна знала тюремную азбуку, но без навыка и тренировки уловить стуки было нелегко и самим отстучать тоже. Хотя никаких «связей» у нас ни с кем не было, но просто ради любопытства было интересно узнать, кто нам стучит и что у нас за соседи. Для этого нам необходимо было изучить «ключ» тюремной азбуки, так как на слух ничего не получалось, и каким-то образом написать эту азбуку на кусочке бумаги.
Но чем? Карандашей или ручек нам иметь не полагалось… Нам давали по 11 папирос в день (почему именно по 11?), не спрашивая, курящие мы или нет. Я начала курить еще на Лубянке в надежде унять щемящую тоску неизвестности. Для того чтобы закурить, надо было постучать и попросить часового зажечь спичку. Иногда она оставалась в его руках, иногда переходила в мою собственность. Как оказалось, и обгорелая спичка может на что-то пригодиться.
Мы нацарапали этот нехитрый «ключ» обгорелой спичкой на кусочке бумаги, и я взялась за дело. Положив на страницу открытой книги азбуку, чтобы не было видно в глазок, я ручкой ложки стала постукивать. Мне тут же ответили, только я не могла понять – что. Сидя на своих койках, все затаили дыхание, стараясь уловить ответ…
Вдруг наша дверь с грохотом распахнулась, и в камеру влетел Вельзевул. Он схватил мой несчастный «ключ» и ложку – вещественные доказательства моего преступления.
– Вы будете наказаны! – прошипел корпусной и выскочил вон.
Доигрались! Мы все думали, что посадят в карцер только меня, что было бы логично, так как стучала я. Но через некоторое время окошечко открылось, и часовой возвестил:
– Соберитесь с вещами!
– Все?
– Все! Собирайтесь!
Неужели нас всех посадят в карцер? Собираться с вещами теперь стало не так просто. Вещей развелась тьма, нам несли и несли теплые вещи. Наконец мы кое-как увязали огромные узлы. Особенно долго ждать не пришлось. Дверь громыхнула, Вельзевул и еще трое конвойных явились за нами.
Я не знаю, как устроены другие корпуса Бутырок, но в нашем двери камер выходили на длиннейшие балконы, которые тянулись вдоль стен корпуса, поперек которого были кое-где переброшены мостики, и с них спускались ажурные, довольно крутые лестницы.
В Бутырках не было принято цыкать, как на Лубянке, но тут тоже заключенным не полагалось встречаться друг с другом, и поэтому конвоиры, чтобы предупредить, что они кого-то ведут, постукивали ключами по медным пряжкам своих поясов. Встречный конвоир ставил своего подопечного лицом к стене, и таким образом удавалось разминуться.
Под мелодичный звон ключей наша процессия тронулась. Впереди Вельзевул, за ним – один из конвоиров, затем гуськом мы со своими узлами, за нами еще конвоир и, наконец, последний замыкающий с нашей парашей в руках, которую он торжественно нес перед собой: очевидно, параши в то время в Бутырках были дефицитом.
Подбирая по дороге выпадающие из узлов пожитки, мы спускались все ниже, пока не кончились все лестницы и нам не пришлось идти вдоль стен, едва освещенных тусклым светом лампочек. Это тебе не наш солнечный четвертый этаж! Наконец Вельзевул с видом победителя распахнул перед нами дверь камеры.
Боже, что это была за камера! Крошечная каморка, где кровати стояли вплотную друг к другу, не оставляя места ни для стола, ни для прохода. В камере было темно, как поздним вечером, а тусклая лампочка едва светила под самым потолком! Однако самый главный сюрприз ждал нас поздно вечером. Только мы с грехом пополам улеглись спать, как вся наша каморка стала содрогаться от пронзительного лязга и скрежета. «Вау-у-у!» – завыло за стеной. И опять, и опять. Оказалось, мы обитали теперь рядом с допотопным лифтом, который дико скрежетал и дребезжал всеми своими железками. Днем он, проклятый, молчал. Но только лишь наступала ночь…
Кабинеты следователей были на четвертом этаже, а работали они здесь, как и на Лубянке, по ночам.
На другой день дежурил корпусной-украинец. Мы стали просить его вызволить нас. Он сочувственно поцокал языком и помотал головой:
– Це я не можу. Це вам до його надо обращаться!
Мы прождали еще два дня и обратились «до його». Парламентером, конечно, была Раиса Осиповна.
– Гражданин начальник, – сказала она самым умильным голосом, – простите нас! Мы так сожалеем о своем легкомыслии, но, поверьте, тут не было злого умысла, просто от скуки!
Так как на его хищном лице не отразилось и тени чего-либо, похожего на снисхождение, вмешалась я:
– Гражданин начальник, накажите меня одну, ведь это я стучала! У бабушки (это у Раисы Осиповны) больные глаза, она только что после операции, ей никак нельзя при этом свете!
И Вельзевул заговорил. Он даже не шипел, говорил спокойно, с сознанием выполненного долга:
– У вас была прекрасная светлая камера. Вы вели себя дурно, и вас перевели в худшую. Будете опять вести себя плохо, вас переведут в еще худшую.
Через три дня, дождавшись его очередного дежурства, мы снова просили прощения, и снова услышали в ответ: «У вас была прекрасная светлая камера…»
Через несколько дней от нас взяли Ирину, а я, Галя и Раиса Осиповна так и остались сидеть в этой каморке. И каждый раз, когда мы обращались с просьбой о помиловании, в ответ раздавалось одно и то же: «У вас была прекрасная светлая камера…»
Да, у нас у всех была прекрасная светлая камера!
Глава 4
Игра в правосудие
Но все на свете кончается. И однажды входит корпусной-украинец и передает мне узенькую ленту папиросной бумаги.
– Что это такое? – недоумеваю я.
– То це ж выписка з протоколу, з обвинительного акту.
Мы все склоняемся над бумажкой. Там стоят две строчки точек, а затем: «На основании вышеизложенного Федорова Е. Н. обвиняется по ст. Уголовного кодекса 58–10 и 58-8»… И все.
Значит, на основании вот этих точек.
– А что это значит, – спрашиваю я украинца, – 58–10 и 58-8?
– Ну… 58–10 – полегше, а 58-8 – покрэпше! Завтра з утра на суд поедете.
На суд!.. Наконец!.. Сердце бешено колотится, руки перестают слушаться. Суд!.. Мой последний шанс, последняя надежда! Если это такая же комедия, как допросы, значит, все кончено, расстрел. Я уже понимала, что «террор» – это очень серьезно. Если же меня выслушают – НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, чтобы не поверили, не увидели бы, что перед ними не политический и вообще никакой не преступник – а обыкновенный нормальный человек. Только бы выслушали, только бы дали говорить!..
Действительно, назавтра мне принесли утреннюю кашу раньше, чем другим, и вернули… отобранные еще на Лубянке шпильки! Какие аккуратность и оперативность! Хранятся не только «вечные» дела, но и дамские шпильки, которые, как оказалось, можно воскресить в любой момент, когда понадобятся!
Долго выбирали подходящий наряд из нескольких присланных мне мамой платьев. Чтобы было «прилично и скромно» (хотя все платья были более чем скромны). Ну вот, готово! Я одета, причесана, отведена на оправку. Последние лихорадочные напутствия – что кому сказать, последний раз я повторяю затверженные адреса Дэ-дэ и Галиной матери, не перепутать бы! Ведь если меня оправдают, я же не вернусь в камеру!
Раиса Осиповна и Галя хлопотали вокруг меня, помогая одеться, выбирая из одежды, присланной в передачах, что-нибудь «поприличнее».
– Если я не вернусь, значит, меня оправдали и отпустили. Все, что вам может понадобиться из моих вещей, вы оставьте себе. И помните, если в первой передаче будет по плитке шоколада «Золотой ярлык», значит, все хорошо, я виделась с вашими и все им передала.
Наконец грохочут двери, и какой-то новый конвоир с бумагой в руках сурово спрашивает: