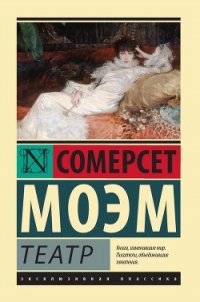Жизнь, театр, кино - Жаров Михаил (читать книги онлайн бесплатно серию книг TXT) 📗
Горьким и Юрьевым в создании Большого драматического театра в Ленинграде.)
Кроме оперетты, бывал я в других театрах Москвы военного и предреволюционного времени. Каждый свободный вечер я стремился посмотреть что-нибудь новое. Однажды на Большой Дмитровке, где сейчас помещается цыганский театр "Ромэн", открылся театр миниатюр, в котором прогремела веселая комедия под названием "Вова приспособился". Это было продолжением другого спектакля, который шел в том же театре и назывался "Иванов Павел". В нем ученик распевал куплеты:
Кто не знает букву ять,
Букву ять, букву ять,
Где и как ее писать,
Где писать, да...
Этот бессмысленный по существу куплет, по странному стечению обстоятельств, стал очень модным в Москве тех лет и распевался на каждом углу.
В обоих спектаклях театра - "Вова приспособился" и "Иванов Павел" - главные роли играл замечательный артист И. Р. Пельтцер, отец Т. И. Пельтцер, которая сейчас процветает в Театре сатиры и снимается в кино. Таня пошла в отца и сама стала великолепной комедийной актрисой. Итак, И. Р. Пельтцер играл приспособленца Вову. Это было московской сенсацией. Попасть на этот спектакль было очень трудно, хотя он был коротким и его играли два - три сеанса в вечер. Это было злободневное смешное представление эстраднодраматического смешанного жанра. В нем высмеивали тех лиц, которые уклонялись от воинской повинности и под всякими предлогами норовили пристроиться в тылу. Играли этот спектакль первоклассно, Иван Романович стал всеобщим любимцем. Я помню его еще по театру Корша: там он играл всегда эпизодические, характерные роли, но в этих вторых ролях он был больше, чем первый герой, и к нему, как к признанному премьеру, тянулись не только зрители, но и актеры.
Пожалуй, именно Иван Романович помог мне впервые понять, что в театре нет маленьких ролей и почти любой эпизодический образ можно сыграть так, чтоб он запомнился как заглавный герой. Это было хорошей школой для меня, и я на всю жизнь сохранил какую-то особую, почти отцовскую любовь к ролям малым, но отнюдь не маленьким.
Забегая вперед, скажу, что с Пельтцером я снимался в картине "Медведь", где он играл слугу, а я помещика Смирнова. И вот эта короткая встреча с Иваном Романовичем в одной сцене, когда он - слуга - выгоняет Смирнова из чужого дома, а тот не уходит и приказывает принести ему завтрак, прошла на киносъемках необыкновенно легко и свободно в смысле актерского самочувствия, что, к сожалению, не так часто бывает не только в кино, но и в театре. Играя с Иваном Романовичем, вы могли быть совершенно спокойны, могли пробовать, искать варианты, зная, что он как партнер вас не подведет, не будет выжидать, где, воспользовавшись вашей неуверенностью, подставить вам ножку и показать себя. Нет, наоборот, он вам поможет своим безошибочным актерским чутьем, создаст такую творческую атмосферу, что вы будете словно купаться в своей роли, получая истинное наслаждение от общения с чутким, правдивым актером, обладающим к тому же отменным вкусом...
...Вот так, побродив в Москве по разным театрам, я опять возвращался в свой Художественный театр, в его Первую студию, к своим любимым артистам, и убеждался еще и еще раз, что для меня нет лучшего театра на свете.
Г ляжу революцию
Между февралем и октябрем 1917 года жизнь подхватила и увлекла меня своим отнюдь не театральным потоком.
Я, как уже говорил, работал в бывшем театре Зимина, перешедшем теперь в ведение Моссовета, в должности помощника режиссера-администратора.
У меня было удостоверение-мандат, позволявшее мне входить во все помещения Моссовета и, стало быть, вращаться в самой гуще московских событий, быть в курсе всех новостей. Обо мне можно было сказать: "наш пострел везде поспел!" -столько я бегал по бурлившему городу, желая всюду поспеть, все увидеть.
24 - 25 октября по Москве разнеслись слухи, что в Петрограде началось вооруженное восстание большевиков. В этот день я носился между театром и Моссоветом.
За обедом в моссоветовской столовой, которая находилась в левом крыле второго этажа, кто-то положил мне на колени записку: "Дорогой товарищ, фракция большевиков приглашает тебя явиться сегодня в таком-то часу в здание Моссовета, в Белый зал".
Я прочел эту записку и также незаметно передал дальше. Выйдя из-за стола, я пошел заглянуть в Белый зал, мимо которого проходил каждый день. Дверь была закрыта. Я осторожно приоткрыл ее и увидел необычную картину, заставившую забиться мое сердце. Под каждым окном, выходящим на Тверскую, стоял пулемет "максим" в боевой готовности, на полу лежали и сидели солдаты. У стен в козлах стояли винтовки. "Вот она, революция, - подумал я, - сегодня непременно что-то будет".
Вечером, после очередного спектакля перед почти пустым залом, я отправился опять к Моссовету и еще издали услышал выстрелы. Встретившийся мне режиссер Вишневский, прищуря свой единственный глаз, сказал:
- Куда это вы идете? (Я был со своим товарищем - Ваней Юровым.) Разве вам не ясен зловещий смысл слухов о восстании большевиков. Будет резня!
- А вы не бойтесь, мы вас проводим, - ответили мы.
- Без вас дойду, прохвосты!
За что-то обругав нас, он пошел, постукивая палкой, в которую, как рассказывали бутафоры, был вмонтирован стилет. По иронии судьбы, Вишневский был вскоре убит у Никитских ворот пулей белогвардейца, а опасался "красных"!
Началась перестрелка с юнкерами полковника Рябцева, которые окружили Кремль, блокируя находившихся там красногвардейцев. Мы подошли к площади, где высился памятник Скобелеву, - дальше не пускали. У подъезда Моссовета и в подъезде гостиницы "Дрезден", где помещался Московский комитет партии большевиков, стояли штатские вперемежку с военными. Я мог пройти везде с моим удостоверением, но не хотел оставлять друга, и с группой солдат мы отправились вниз, к Охотному ряду.
Вдруг перестрелка усилилась. От Охотного ряда к Моссовету хлынула толпа. Впереди нее, по середине мостовой, шел студент, еще почти мальчик, с ружьем под мышкой, и, как свечу, держал перед собой окровавленный палец. Он смотрел на него, не отрываясь, был бледен, и губы его, как мне показалось, шептали: "Мама, мама!". Это был первый раненый, которого я увидел в тот день.
Ночь прошла в стрельбе, а рано утром, часов в девять, я побежал в театр - там все было невозмутимо спокойно. Я не мог оставаться в театре и побежал к Моссовету. На углу Камергерского переулка и Тверской стояла застава - солдаты с пулеметами. Дула "максимов" смотрели в сторону Газетного переулка. Я подошел к группе вооруженных людей. Какой-то дворник и я обратились к командиру с красной лентой на рукаве и с красной кокардой на серой шапке с просьбой пропустить нас к Моссовету. Пропустив дворника, командир взглянул на меня, худощавого парнишку с детским лицом, и, усмехнувшись, сказал, возвращая именной пропуск:
- Юнкера еще кругом стреляют. Иди-ка, Жаров, лучше домой. Небось, мать волнуется. И вообще не стой на углу!
Но не так-то легко было от меня избавиться! Меня все бесконечно волновало, и я, прижавшись к стене, остался стоять.
Вдруг тишину дробно прорезал стук колес. В Газетном переулке появилась тачанка, направлявшаяся к перекрестку Тверской. На ней что-то лежало, накрытое шинелями, а сверху, спиной друг к другу сидели двое военных. На козлах помещался офицер в папахе с поднятым воротником шинели и руками в карманах. Тачанка двигалась по направлению к Камергерскому переулку, где стояла наша застава. Когда она приблизилась, на перекресток мостовой вышел красный командир и поднял левую руку:
- Стой, кто такие?
Солдат, подошедший вместе с ним, взял винтовку наперевес.
Вместо ответа раздался выстрел. Стрелял возница. Наш командир упал. Человек в офицерской папахе прыгнул с тачанки и, как кузнечик на булавку, напоролся на штык красногвардейца. Беляк инстинктивно выдернул его, схватился руками за живот и побежал в нашу сторону. С обеих сторон улицы застреляли. Я юркнул в первые попавшиеся ворота. Стрельба так же быстро прекратилась, как внезапно началась. Мимо меня, шагах в трех - четырех, пробежал раненый с распоротым животом. Я видел, как он упал напротив ворот.