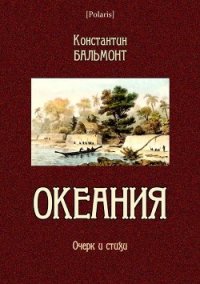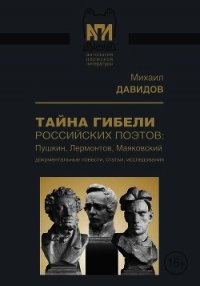Маяковский – сам. Очерк жизни и работы поэта - Кассиль Лев Абрамович (читаем книги онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
С иронической вежливостью отодвинувшись от жара, досадливо отмахнувшись от диктора, который все пытается прервать передачу и вывести поэта из загоревшейся студии («Слеза из глаз у самого – жара с ума сводила…»), Маяковский продолжает читать…
Так же ясен и огромен этот ломящийся сквозь все препоны голос.
Хлеща пеногонной струей по горящей материи, суетятся работники студии. Кем-то задетая, срывается электропроводка, тухнет свет. Некоторое время еще тлеет содранная со стены материя, потом и она гаснет шипя.
Полная тьма в студии. Дым и тьма.
Но, пробивая потемки, через микрофон в страну идет голос:
Маяковский в большом
Дверь в Гендриковом обита изнутри железом. Когда открываешь ее, она слегка погромыхивает. А временами кажется, что все здесь в квартире покрыто листовым железом, по которому с маху бьют тяжелой кувалдой. Это Маяковский сердится. Голос, привыкший себя чувствовать дома на площади, здесь стеснен, зажат стенами. Отбываются стекла окон, дрожь пробирает стаканы в буфете.
– Не понимают! Ни черта не понимают! Не хотят понять. Дураки или мерзавцы? Или то и другое?.. До чего ж им хочется меня отжать в сторону!
Еще не успокоилась, качается только что наброшенная на рычажок трубка. Был крепкий разговор по телефону. Кто-то уже с утра сводил литературные счеты.
Утром Москва рвется в телефонную трубку.
– 2-35-79!..
Звонят из редакции. Просят приехать на завод. Заказывают плакаты. Друзья читают удачные строки, написанные ночью, и горестно подсчитывают, сколько должны за вчерашний проигрыш. Журналисты сообщают новости со всего мира – новости, которые не поспели в газету. А ему не терпится узнать, что нового на «земшаре». Скоро позвонит знакомая, с которой они пойдут в кино. Усердно названивают недоругавшиеся вчера противники.
Телефон висит в узком простенке между окном и дверью из столовой в комнату Маяковского.
Маяковский встает на звонок и левой рукой еще издали крепко берет трубку. Так берутся за ручку на окне, чтобы распахнуть рамы, открывающиеся внутрь. Шнур у трубки длинный. Можно, держа трубку у уха, пройти в дверь. И Маяковский крупно и мягко шагает из своей комнаты в столовую и обратно по дуге, радиус которой – шнур.
Так он расхаживает по этому полукругу своей упрямой и упругой походкой, круто заводя плечо на повороте. Пучеглазая Булька, похожая на маленького идола, следит за ним, посапывая на своем диванчике.
Вот звонок, которого он ждал. И уже совсем в другом регистре бархатно рокочет его бас.
– «И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, – говорит он, прохаживаясь возле самого аппарата.– Идет направо – песнь заводит, налево – сказку говорит».
Потом, выслушав что-то, он разом мрачнеет. Он начинает ходить быстрее, натягивает шнур до отказа, словно рвется с привязи.
Только что повешена трубка, и снова звонок. Звонят из «Комсомольской правды». Теперь он ходит весело, размахивая свободной рукой. Азартная улыбка сдвинула папиросу далеко вбок. Уже не кажется привязью телефонный шнур, по которому прошел силовой ток, приведший в движение этого только что угрюмого, осевшего человека.
– Очень здорово, что позвонили! – радушно говорит он, скосив в трубку свой большой горячий глаз.– Просто спасибо, что позвонили. А я только что со всем миром переругался. Завалились хламьем и ушей не продуют. Ничего, я еще им перепонки поскребу! А стих дам завтра же. Тема вполне роскошная, сама в строку лезет.
Скрипят по снегу сани в тихом Гендриковом переулке. Январский снег лежит на деревьях во дворе. Тихо и глухо. Трамвайный лязг и базарный шум Таганки не доходят сюда.
Погромыхивает железом входная дверь. Приносят ворох газет, журналы: «Крокодил», «Строим», «Огонек».
30-й год. Январь.
И вот опять звонит телефон. Маяковский берет трубку. Он смотрит вдруг на нас глазами очень серьезными и загоревшимися.
– Да, – говорит он в трубку.– Хорошо. Буду.
Его приглашают выступить на торжественном траурном заседании в Большом театре в шестую годовщину смерти Ленина.
– Буду читать в Большом, – повторяет он торжественно, – «Ленина» буду читать. Это для меня большое дело. Все-таки, значит, пробил кое-где стену. В Большой зовут. На Ленинский вечер. Буду читать как зверь. Политбюро будет. Коминтерн.
Он останавливается. Потом идет в свою комнату. Оборачивается в дверях:
– Пожалуй, самое ответственное выступление в моей жизни!
Через несколько дней я застаю его утром, еще до завтрака. Телефон звонит, но он не подходит.
– Скажите, занят. Пусть потом.
В больших мягких ночных туфлях он расхаживает по своей комнате и по столовой, отводя широкие плечи от косяков, длинными галсами лавируя между стульями. На нем легкая пижама. Она коротка и тесна ему. Он то и дело шутливо одергивает ее сзади и спереди.
– Мелкота эти шантеклеры парижские, кургузая публика, воробейчиковы масштабы! Не могут сочинить штаны подходящего калибра. Вот, привез из Парижа, а в нее ничего не влазит. Центр прикроешь – периферия открывается, на периферию натянешь – центр виден. Черт их знает, на кого шьют!;
На выдвинутой доске стола-бюро лежит его рабочий блокнот и рядом – вечная ручка. На листке знакомой лесенкой расположились недописанные строки. Это пишется стихотворение для ленинского номера «Комсомольской правды». Но сейчас он занят другим. Заложив двумя пальцами страницы, захлопнув книгу и держа ее в согнутой руке на весу, он расхаживает по комнате, вполголоса читая своего «Ленина».
Он, всегда знающий собственные стихи наизусть, помнящий сотни чужих строк и ревниво поправляющий товарища, когда тот неверно читает свое, он сейчас ходит и, как школьник перед экзаменом, еще и еще раз повторяет знакомые строки, чтобы затвердить их покрепче.
– Никогда не учил, а вот сейчас зубрю как проклятый. Волнуюсь. Хочется здорово прочесть. Ужасно хочется здорово прочесть. Почетное же ж выступление!
21 января 1930 года. Большой театр.
Кончился перерыв после официальной части торжественного траурного заседания. Сила и слава столицы, стекаясь из коридоров, занимает снова свои места.
Стихает.
Тишина из партера восходит по полукружиям ярусов. В оркестре перепиликиваются скрипки, сбегает по ступеням гаммы труба. Над рампой зажигается зарево. Занавес уходит вверх, и вышедший из-под него человек объявляет:
– Слово имеет поэт Владимир Маяковский.
Аплодисментами приветствуют сперва имя, а потом и самого поэта. Он выходит на сцену в просторном темно-сером крупного зерна костюме. Даже здесь, перед шестью ярусами гигантского зала, среди мыогоаршинных сукон, нависающих, как сталактиты, в огромном зеве сцены, он кажется таким же крупным, не поддающимся никаким уменьшениям. Сразу все чувствуют, что он пришелся тут к месту, что масштабы зала и сцены, размах ярусов, глубина потолка ему по плечу. Он выходит к самому краю сцены, может быть даже слишком к краю, и свет, идущий с ним, резко выделяет на его лице могучий рот и подбородок. Одному ему присущей повадкой, из-под неподвижных бровей, он круто обводит зал своими большими глазами, всех забирая в один горячий глазоохват. Слегка откинувшись назад, прочно утвердившись на чуть расставленных ногах, он медленно разжимает сильные губы.
– Читаю последнюю часть из моей поэмы «Владимир Ильич Ленин».
И вот, едва не колыхнув красного бархата занавесей, словно разгибает подкову зала не слыханный никогда здесь голос: