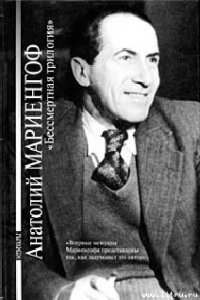Роман без вранья - Мариенгоф Анатолий Борисович (е книги .txt) 📗
53
Летом я встречался с Никритиной раз в сутки. После ее возвращения из Киева — два раза. Потом — три. И все-таки казалось, что мало.
Тогда она «на совсем» осталась в маленькой богословской комнатке.
Случилось все очень просто: как-то я удержал ее вечером и упросил не уходить на следующее утро.
Я сказал:
— Все равно вам придется через час торопиться ко мне на свидание… Нет никакого расчета.
Никритина согласилась.
А через два дня она перенесла на Богословский крохотный тюлевый лифчичек с розовенькими ленточками. Больше вещей не было.
54
Весна. В раскрытое окно лезет солнце и какая-то незатейливая, подглуповатенькая радость.
Я затягиваю ремень на непомерно разбухшем чемодане. Сколько ни пыхчу, как ни упираюсь коленом в его желтый фибровый живот — толку мало. Усаживаю Никритину на чемодан.
— Постарайся набраться весу.
Она, легонькая, как перышко, наедается воздухом и смехом.
— Рразз!
Раздувшиеся щеки лопаются, ремень вырывается у меня из рук, и разъяренная крышка подбрасывает «вес» кверху.
Входят Есенин и Дункан.
Есенин в шелковом белом кашне, в светлых перчатках и с букетиком весенних цветов.
Он держит под руку Изадору важно и церемонно.
Изадора в клетчатом английском костюме, в маленькой шляпочке, улыбающаяся и помолодевшая.
Есенин передает букетик Никритиной.
Наш поезд на Кавказ отходит через час. Есенинский аэроплан отлетает в Кенигсберг через три дня.
— А я тебе, дура-ягодка, стихотворение написал.
— И я тебе, Вяточка.
Есенин читает, вкладывая в теплые и грустные слова теплый и грустный голос:
Мое «Прощание с Есениным» заканчивалось следующими строками:
55
А вот что писал Есенин из далеких краев:
«Остенде. Июль, 9, 1922.
Милый мой Толик. Я думал, что ты где-нибудь обретаешься в краях злополучных лихорадок и дынь нашего чудеснейшего путешествия 1920 года, и вдруг из письма Ильи Ильича узнал, что ты в Москве. Милой мой, самый близкий, родной и хороший. Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая северянинщина жизни.
Сейчас сижу в Остенде. Паршивейшее Бель-Голландское море и свиные тупые морды европейцев. От изобилия вин в сих краях я бросил пить и тяну только сельтер.
Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это самый обширнейший район распространения наших идей и поэзии, а отсюда я вижу: боже мой, до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны еще и быть не может.
Со стороны внешних впечатлений после нашей разлуки здесь все прибрано и выглажено под утюг. На первых порах твоему взору это понравилось бы, а потом, думаю, и ты стал бы хлопать себя по колену и скулить, как собака. Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрее ящериц, не люди — а могильные черви, дома их — гроба, а материк — склеп. Кто здесь жил — тот давно умер, и помним его только мы. Ибо черви помнить не могут.
Из всего, что я здесь намерен сделать, — это издать переводы двух книжек по 32 страницы двух несчастных авторов, о которых здесь знают весьма немного, и то в литературных кругах. Издам на английском и французском.
В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха. Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привели всех в бешенство. Все думают, что я приехал на деньги большевиков как чекист — или как агитатор. Мне все это весело и забавно. Том свой продал Гржебину. От твоих книг шарахаются. «Хорошую книгу стихов» удалось продать только как сборник новых стихов твоих и моих. Ну, да черт с ними, ибо все они здесь прогнили за 5 лет эмиграции. Живущий в склепе пахнет мертвечиной. Если ты хочешь сюда пробраться, то потормоши Илью Ильича, я ему пишу об этом особо. Только после всего, что я здесь видел, мне не очень хочется, чтобы ты покинул Россию. Наше литературное поле другим сторожам доверять нельзя. Во всяком случае, конечно, езжай, если хочется, но скажу откровенно: если я не удеру отсюда через месяц, то это будет большое чудо. Тогда, значит, во мне есть дьявольская выдержка характера, которую отрицает во мне Коган.
Вспоминаю сейчас о Туркестане. Как все это было прекрасно, боже мой! Я люблю себя сейчас даже пьяного со всеми своими скандалами:
В Самарканд не поеду-у я
Т— там живет — да любовь моя.
Толя милый, приветы. Приветы.
Твой Сергун».
«Дура моя ягодка.
Дюжину писем я изволил отправить вашей сволочности, и ваша сволочность — ни гу-гу.
Итак. начинаю.
Знаете ли вы, милостивый государь, Европу? Нет. Вы не знаете Европы. Боже мой, какое впечатление, как бьется сердце… О, нет, вы не знаете Европы.
Во— первых, боже мой, такая гадость, однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется. Сердце бьется, бьется самой отчаяннейшей ненавистью, так и чешется, но к горю моему один ненавистный мне в этом случае, но прекрасный поэт Эрдман сказал, что почесать его нечем. Почему нечем? Я готов просунуть для этой цели в горло сапожную щетку, но рот мой мал и горло мое узко. Да, прав он, этот проклятый Эрдман, передай ему за это тысячу поцелуев.
Да, мой друг рыжий, да. Я писал Сашке, писал Златому — и вы «ни тебе, ни матери».
Теперь я понял, понял все я —
Ах, уж не мальчик я давно, —
Среди
исканий, без покоя
Любить поэту не дано.
Это сказал В. Ш., по-английски он зовется В. Шекспир. О, я узнал теперь, что вы за канальи, и в следующий раз вам, как в месть, напишу обязательно по-английски — чтобы вы ничего не поняли.
Ну так вот — единственно из-за того, что вы мне противны, за то, что вы не помните меня, я с особым злорадством перевел ваши скандальные поэмы, на англ. и франц. яз. и выпускаю их в Парнике и Лондоне.