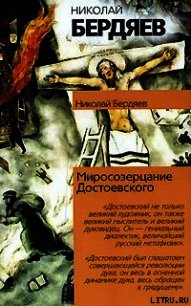Невероятная жизнь Фёдора Михайловича Достоевского. Всё ещё кровоточит - Нори Паоло (онлайн книга без TXT, FB2) 📗
Из-за этой публикации Тургенев «за ослушание и нарушение цензурных правил был посажен на месяц под арест в части» (как писал он в книге «Литературные и житейские воспоминания»), а затем сослан на два года в родовое имение неподалеку от Орла под надзор полиции.
То есть российские власти в принципе запрещали говорить о Достоевском или Гоголе – неважно, хорошо или плохо. Однако, что бы они ни делали, все было напрасно. Гоголь оказался сродни радиации: любой, кто к нему приближался, уже представлял опасность.
В те далекие времена писатели в России представляли опасность.
6
Приговор
Как и все люди, достигшие моего возраста (а мне пятьдесят семь), я часто думаю о тех вещах, которых в моей жизни уже никогда не будет, например, я больше никогда не зайду в магазин и не спрошу: «У вас есть наклейки?»
Или запахи, которых я уже никогда не почувствую, как тот аромат, что витал в салоне «Фиата 1100», на котором ездил мой отец, выкуривавший каждый день по шестьдесят сигарет «Голуаз» без фильтра, так что в машине все ими пропахло.
А вот моей дочери, которой сейчас шестнадцать, фраза «У вас есть наклейки?» ни о чем не говорит и запах прокуренного салона тоже ни о чем не напоминает, потому что ее родители уже много лет не курят.
И если я начну писать о тех мелочах, которые происходили со мной в молодые годы, это вызовет отклик только у читателей примерно моего возраста: это воспоминания с истекающим сроком годности. Пройдет еще пятьдесят лет, и вопрос «У вас есть наклейки?» вообще не будет вызывать у читателей никаких эмоций.
И это, в принципе, нормально.
Несколько менее нормально то, о чем я рассказывал в начале этого романа: когда у меня появилось ощущение, что книга, которую я держал в руках, изданная сто двенадцать лет назад за три тысячи километров от моего дома, вскрыла во мне какую-то рану, которая еще не скоро перестанет кровоточить; это была книга о бывшем студенте, который жил в Петербурге (где я никогда не бывал) и планировал убийство старухи-процентщицы (что мне и в голову не приходило).
Такое же удивительное, необъяснимое впечатление производит рассказ Достоевского о том, что переживает человек, приговоренный к смерти. Это тот опыт, которым мало кто в мире может поделиться (со мной, например, ничего подобного не происходило), но, читая об этом у Достоевском, вы как будто сами все переживаете.
Как это работает, непонятно.
23 апреля 1849 года Достоевский вместе с другими участниками тайного общества был арестован и препровожден в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.
Его посадили в камеру номер один.
Жить ему оставалось восемь месяцев.
Читать и писать Достоевскому разрешили через два месяца. В его письме брату от 18 июля 1849 года читаем:
«Ты мне пишешь, любезный друг, чтоб я не унывал. Я и не унываю; конечно, скучно и тошно, да что ж делать! Впрочем, не всегда и скучно. <…> У меня есть и занятия. Я времени даром не потерял, выдумал три повести и два романа; один из них пишу теперь…»
Из всего написанного Достоевским в тюрьме опубликован был только один рассказ «Маленький герой», изданный в 1857 году и подписанный: М-ий. Это история о том, как одиннадцатилетний мальчик, гостивший у своих родственников, влюбился в замужнюю женщину, и эта влюбленность привлекала к нему повышенное внимание всех гостей имения, где разворачиваются события; это история взросления юного главного героя, окрашенная отнюдь не в мрачные тона: не зная, в каких условиях она создавалась, невозможно догадаться о том, что автор находился в тюрьме.
«Я никогда не работал так con amore [40], как теперь», – признается Достоевский брату, и слова «с любовью» он пишет по-итальянски.
Вскоре после приезда в Петербург, в июле 1837 года, пятнадцатилетний Фёдор Достоевский писал отцу: «Какова-то у вас погода? Что касается до петербургской, то у нас прелестнейшая, итальянская».
«Прелестный» для юного Достоевского, каким он был в 1837 году, синоним «итальянского».
На тот момент он еще не бывал в Италии, не побывал он в ней и к 1849 году. Но уже задолго до первого визита Италия виделась ему прекраснейшей страной.
«Смех не сходил с ее губ, свежих, как свежа утренняя роза, только что успевшая раскрыть с первым лучом солнца свою алую, ароматную почку, на которой еще не обсохли холодные крупные капли росы…»
Это описание (взятое из «Маленького героя») заставляет вспомнить портрет Ольги из «Евгения Онегина», которую Пушкин описывает так: «Глаза, как небо, голубые; / Улыбка, локоны льняные, / Движенья, голос, легкий стан, / Всё в Ольге… но любой роман / Возьмите и найдете верно / Ее портрет», – пишет поэт. Помните?
Такое впечатление, что эта фраза («Смех не сходил с ее губ» и так далее), хотя мы и находим ее в рассказе Достоевского и интересует она нас постольку, поскольку принадлежит его перу и написана в те дни, когда он томился в Петропавловской крепости, написана не Достоевским, а первым встречным писакой.
Все дело в том, что Достоевский, когда-то самый обычный студент, позднее, в июне 1845 года, в одночасье превратившийся в Фёдора Михайловича Достоевского, довольно скоро, уже в 1846 году, снова стал заурядным писателем и, вероятно, так им и остался бы, если бы 22 декабря 1849 года с ним не произошло одно очень странное событие.
Дмитрий Дмитриевич Ахшарумов, двадцатишестилетний чиновник Министерства иностранных дел армянского происхождения, активный участник кружка Петрашевского и сокамерник Достоевского, оставил воспоминания о том, что произошло в Петербурге утром 22 декабря 1849 года:
«Вошел один из знакомых офицеров с служителем; мне принесено было мое платье, в котором я был взят, и, кроме того, теплые, толстые чулки. Мне сказано, чтобы я оделся и надел чулки, так как погода морозная. „Для чего это? Куда нас повезут? Окончено наше дело?“ – спрашивал я его, на что мне дан был ответ уклончивый и короткий при торопливости уйти. Я оделся скоро, чулки были толстые, и я едва мог натянуть сапоги. Вскоре передо мною отворилась дверь, и я вышел. Из коридора я выведен был на крыльцо, к которому подъехала сейчас же карета, и мне предложено было в нее сесть. Когда я шел, то вместе со мною влез в карету и солдат в серой шинели и сел рядом – карета была двухместная. Мы двинулись, колеса скрипели, катясь по глубокому, морозом стянутому снегу. Оконные стекла кареты были подняты и сильно замерзлые, видеть через них нельзя было ничего. Была какая-то остановка: вероятно, поджидались остальные кареты. Затем началось общее и скорое движение. Мы ехали, я ногтем отскабливал замерзший слой влаги от стекла и смотрел секундами – оно тускнело сейчас же.
– Куда мы едем, ты не знаешь? – спросил я.
– Не могу знать, – отвечал мой сосед.
– А где же мы едем теперь? Кажется, выехали на Выборгскую?
Он что-то пробормотал. Я усердно дышал на стекло, отчего удавалось минутно увидеть кое-что из окна. Так ехали мы несколько минут, переехали Неву; я беспрестанно скоблил ногтем или дышал на стекло.
Мы ехали по Воскресенскому проспекту, повернули на Кирочную и на Знаменскую, – здесь опустил я быстро и с большим усилием оконное стекло. Сосед мой не обнаружил при этом ничего неприязненного – и я с полминуты полюбовался давно не виданной мною картиной пробуждающейся в ясное зимнее утро столицы; прохожие шли и останавливались, увидев перед собою небывалое зрелище – быстрый поезд экипажей, окруженный со всех сторон скачущими жандармами с саблями наголо! Люди шли с рынков; над крышами домов поднимались повсюду клубы густого дыма только что затопленных печей, колеса экипажей скрипели по снегу. Я выглянул в окно и увидел впереди и сзади карет эскадроны жандармов. Вдруг скакавший близ моей кареты жандарм подскочил к окну и повелительно и грозно закричал: „Не отгуливай!“ Тогда сосед мой спохватился и поспешно закрыл окно, опять я должен был смотреть в быстро исчезающую щелку! Езда эта продолжалась минут тридцать. Затем повернули направо и, проехав немного, остановились; карета отворилась предо мною, и я вышел.