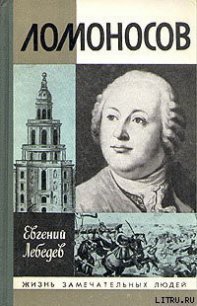Реквием (СИ) - Единак Евгений Николаевич (лучшие книги .txt) 📗
Первые проблески истины стали проступать в Сибири, уже после смерти отца. Мне было двенадцать лет, учился в четвертом классе. Пока я был в школе, сотрудник военкомата явился к нам домой и вручил маме повестку на мое имя, потребовав расписаться.
Мама расплакалась:
— Какая комиссия? Ему только недавно исполнилось двенадцать!
— По документам ему семнадцать. А где он сейчас? — спросил работник военкомата.
— Да в школе он, с утра ушел! — вмешалась бабушка София, жившая с нами в одном доме.
Пошли в школу. Зашли в класс. Работник военкомата проверил по классному журналу. Сличил с повесткой. Я — Виктор, а там — Виталий. Мое отчество Серафимович, а в повестке — Семионович. Да и ростом я был ниже даже своих двенадцатилетних одноклассников. На том и кончилось.
Дома мама расплакалась:
— Правильно говорил Серафим! Подняли нас вместо других!
— Знаешь, — продолжал Виктор. — по возвращении из Сибири я заполнял множество документов, анкет, личных листков по учету кадров. Всюду были такие вопросы:
— Привлекался ли к судебной ответственности и за что?
— Подвергался ли репрессиям сам или мои близкие родственники?
Вначале мне было очень неловко. Мне казалось, что все только на меня и смотрят. Потом привык. Как-то сгладилось. Всегда писал правду.
За все время многолетней учебы, а потом работы я ни разу не почувствовал на себе косой взгляд, недоверие или презрение. Смотрели с интересом, пытливо, часто участливо.
Но как заполняли эти пункты документов те, кто своей рукой отправляли в депортацию на длительные сроки совершенно непричастных к преступлению людей? Что они думали о судьбах отправленных? Приходила ли им в голову мысль о том, что бывшие ссыльные заполняют такие же анкеты?
Я слушал воспоминания Виктора, а перед глазами вставала баба София, почему-то всю жизнь носившая, как монашка, черные длинные одежды. Рядом с ней я видел безрукого ее мужа, деда Юська. Они так же попали в крутой водоворот событий тех лет случайно, по чьей-то недоброй и бездумной воле.
Когда в село пришла разнарядка на депортацию, без долгих раздумий выслали повторно Соломию Ткачук, старшую сестру моей бабушки Явдохи, до войны действительно богатую. Мощных кланов за ней в селе не было, опасаться мести в будущем не приходилось. Но жертвенное гирло борьбы с «врагами народа» требовало пищи. Много пищи!
Келейно решили подать списки самых тихих, безответных и ущербных, чтоб не взяли. Чтобы вернули за ненадобностью. Много лет спустя родственники деда Юська мне рассказали, что уже утром бабу Софию уговаривали скрыться на несколько дней. А вместо нее приложить к сопроводительным документам выписку из церковной книги записей, удостоверяющую, что Кордибановская Софья почила в бозе около тридцати лет назад. Никакой фальсификации документов не было. Первую жену деда Юська звали Анной-Софией.
А одинокого, без обоих рук, старика никто обхаживать не будет. Вернут назад с первого же этапа.
Но «хитроумную» комбинацию с треском разрушила сама баба София. Трудно сказать, что сработало: то ли она не поняла сути замысла, то ли сработала против нее ее же почти библейская порядочность и сердоболие. Но возможность убежать и спрятаться, тем более от закона, баба София с ходу отмела:
— Что с вами, люди добрые! Я столько лет прожила вот тут, все знают нас как мужа и жену и вдруг: меня нет!? Что люди скажут? Ведь мне все верили всю жизнь! Я же поручительницей у стольких людей была!
Баба София действительно много лет ставила в селе свое слово, когда надо было поручиться за кого-либо, взявшего в долг, при совершении какой-нибудь сделки между сельчанами. Ее порядочность не могли не учитывать обе стороны сделки. Тем более, что делала она это совершенно бескорыстно.
Уговаривали скрыться бабу Софию через родственников деда Юська и через близких соседей и ее сестер.
Скорее всего, уговаривал ее сделать это и мой отец. Даже я, малолетний, запомнил его отрывистые, резкие движения при погрузке узлов на телегу. Те узлы он бросал. Свое сердитое лицо отец тогда не прятал. Становятся на свое место и слова отца, в сердцах брошенные бабе Софии в минуты семейной неурядицы, возникшей из-за судьбы одной из моих двоюродных сестер уже в середине пятидесятых:
— Мамо! Вы со своей добротой и терпением вон куда вылезли! Не вмешивайтесь! Ваша доброта и в этот раз может злом обернуться для многих! Как тогда, когда вы от собственных детей добровольно в Сибирь поехали… подтирать…!
Слова отца я привел почти дословно. Будучи самым младшим сыном бабы Софии, он почти всегда расставлял последние точки над «и» в обсуждении родственных проблем.
Отец, не стесняясь, выговаривал довольно близкой родственнице за непресеченную в юности непорядочность ее сына, переросшую во взрослом состоянии в огромную личностную прореху. Он так и говорил:
— З малиньку незашита дюрочка, а здоровому и латку нема куда вже класти! (С детства прореха, к старости — дыра. — смысл. перевод).
Среднему брату, дяде Мише, проработавшему много лет председателем колхоза в Каетановке (Первомайске) Дрокиевского района, потом столько же заведующим фермой, он, почти крича, выговаривал:
— Ты не сумел с детства заложить в головы обоих твоих детей думку о необходимости сначала иметь хотя бы среднее образование. А там бы и сами дальше пошли. А ты все по райкомам и по пьянкам! Ты думаешь, если самого выбрали председателем, то и дети, как вырастут, сразу станут председателями?
Случилось, к сожалению, в точности так, как прогнозировал мой отец.
Дядя Симон, который был на четырнадцать лет старше отца, любил в конце свадеб на складанах (поправках) петь пересоленные песенки, пританцовывая при этом. Не стесняясь, отец выговаривал старшему брату на следующий день, всегда на трезвую голову:
— Твои неумные песни слушают все, включая твоих, моих и чужих детей! Когда дурости покинут твою уже седую голову?
Но случилось то, что случилось. В конце сентября, холодным утром поезд остановился на станции Ишим. Часть депортированных выгрузили. Привокзальная площадь светилась солнечными бликами от уже замерзающих ночью луж. Справа от вокзала, словно выскочив из-за горизонта, висел большой темно-оранжевый солнечный диск. Он казался разрезанным пополам длинным пешеходным переходом на восточной стороне огромного железнодорожного узла.
Потом сто двадцать километров от Ишима до Викулово тряслись в кузове грузовика с остановками около четырех часов. Ночевать повели в длинный деревянный барак, расположенный в ста пятидесяти — двухстах метрах от берега реки Ишим. По рассказам бабы Софии все вокруг пахло керосином, даже хлеб, который им принесли с кашей на ужин.
Конечным пунктом назначения была глухая деревня Волынкина. На следующее утро пришел человек в военной форме, но без погон. Повел группу на самую окраину Викулово. Там у самого берега Ишима на воде покачивался небольшой черный обшарпанный катер. Мотористом и капитаном и на нем был уже пожилой человек в потертой и промасленной форме железнодорожника. Рядом с ним на таком же промасленном сундуке сидел подросток лет пятнадцати.
Из разговора провожатого с мотористом ссыльные поняли, что большак на Волынкину был перекрыт илом после недавно прошедших ливней. Поселенцев усадили на катер. Затарахтел мотор и, изрыгая вбок черный дым, катер повез депортированных вниз по течению.
— А какова ширина Ишима? Глубоко ли там? — спросил я бабу Софию после ее возвращения из Сибири.
— Говорят, что немного уже Днестра в Могилеве. А если смотреть, то немного дальше, чем до Франковой кирницы, — ответила баба София, до того не видевшая ни одной реки, кроме пересыхающей Куболты.
Я знал, что от наших ворот до Франковой кирницы было около пятидесяти метров. Глубина Ишима, по словам бабы Софии, не очень большая, но местные говорили, что есть глубокие омуты.