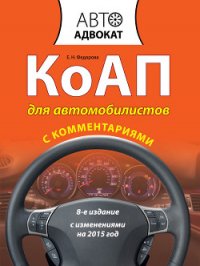На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной - Федорова Евгения (электронные книги без регистрации txt) 📗
Когда Юрка пересказывал анекдоты, ходившие в студенческой среде, ни ему, ни мне не приходило в голову, что мы совершаем преступление против советской власти. Пришло это в голову моей маме, когда она, как оказалось, дальновидно ворчала на нас:
– Вот вы доболтаетесь в конце концов!.. Доболтаетесь!..
И мы «доболтались»…
Сколько раз потом в бессонные ночи и нескончаемые дни я старалась припомнить обстоятельства этого разговора, мельчайшие детали, оттенки, фразы, по всей вероятности никогда и не произнесенные, что в конце концов у меня сложилась какая-то версия, казавшаяся наиболее правдоподобной. Хотя на самом деле все мы, участники драмы (так как болтовня эта обернулась для нас драмой), реально, в подробностях припомнить тот разговор никогда бы не смогли, настолько незначителен и пустячен он был.
Но он действительно был. И роковые слова «100 тысяч» действительно были мною произнесены. И об этом лучше всех помнила моя мама. Разговор, а сказать точнее, болтовня эта произошла между мной и Юркой. И слышал эту болтовню один-единственный человек, при этом присутствовавший, – моя мама. Больше не было никого, в этом я уверена. Что же это значит? Где мама? Что с ней?
Меня снова вызывают на допрос.
– Ну так как, Федорова? Вы подпишете протокол?
– Нет, в такой редакции я подписать не могу.
В протоколе допроса стояло: «Я сказала, что за 100 тысяч рублей согласна совершить террористический акт над товарищем Сталиным». Я понимала: если подпишу протокол, то тем самым подпишу себе и смертный приговор.
– Я могу подписать только, что в шутку оценила свою жизнь в 100 тысяч рублей.
– Ах в шутку! – Звонок: – В камеру!
Через неделю:
– Ну как, подпишете?
– Я уже сказала, что это была шутка по поводу оценки своей жизни, а не террористический разговор.
– В камеру!
Теперь меня вызывают на допрос по два раза в день – утром и вечером.
– Федорова, вы считаете себя вполне советским человеком?
Я затрудняюсь с ответом и отвечаю уклончиво:
– Во всяком случае, я не делала никакого вреда советской власти. Я не была противником советского государства.
– Ах вот как, не были? А вот что говорит о вас ваш двоюродный брат Юрий Соловьев – ваш лучший друг.
Следовательница берет исписанный бланк протокола и читает: «Федорова Евгения Николаевна… морально разложившийся и глубоко антисоветский человек».
Я не верю своим ушам.
Должно быть, желая добить меня, следовательница, прикрыв ладонью текст, тычет мне под нос Юрину подпись:
– Это его подпись?
– Да, конечно, его.
Господи, значит, и Юрку уже допрашивают! Мне и в голову не приходит, что он уже давно арестован и что ему тоже показывают протоколы с моими подписями, где я сознаюсь в «террористических» разговорах.
На следующий день снова:
– Соберитесь на допрос.
Теперь я уже не радуюсь. Я только боюсь. Но в этот раз мы идем очень далеко, что необычно. Поднимаемся по лестнице, потом следуем какими-то бесконечными коридорами, опять спускаемся. Куда меня ведут? Наконец приходим. Сначала я попадаю в огромную темноватую комнату с мягким ковром под ногами, с одним-единственным столом у двери, обитой темной кожей с золотыми бляшками. Комната отделана прекрасными резными деревянными панелями. Я соображаю: значит, ведут к начальству. Ну и хорошо, вот тут-то я и расскажу, как бессовестно искажает смысл того, что я говорю, моя следовательница. Как она заставляет меня расписываться в том, чего я вовсе не говорила.
Из-за стола поднимается женщина и скрывается за кожаной дверью. Она тут же появляется снова и велит мне войти. Я вхожу, и дверь за мной бесшумно закрывается. Я попадаю в ярко освещенный огромный кабинет. Где-то вдали стоит большой письменный стол, а к нему «глаголем» примыкает другой, тоже огромный (тут все огромное), покрытый красным сукном. Вдоль его длинных сторон аккуратными рядами стоят черные деревянные стулья с высокими резными спинками. На стульях никто не сидит, зато за ними вдоль стен стоят неподвижной линией люди в черных пиджаках, при галстуках под белоснежными воротничками. Впрочем, есть и военные. Но все они, штатские и военные, стоят, как на параде, навытяжку, руки по швам.
В глазах у меня рябит, но все же я замечаю среди них и мою Марию Аркадьевну, тоже навытяжку, с прямой спиной, тоже замершую в почтении, с глазами, устремленными, как и у всех, на того – за столом, на главного. Он один сидит, едва возвышаясь над столом, а за ним высоко вверх возносится деревянная резная спинка черного кресла. Его лысая голова кругла, как шар. Раньше, чем я успеваю открыть рот, он хватает кулаком по столу, так что я невольно вздрагиваю (наверное, все они – весь синклит следователей и подчиненных – тоже вздрагивают), и начинает кричать, брызжа слюной.
– Раньше, чем вас арестовать, мы знали, что вы виновны! – орет он. – Что вы тут чушь порете! Шутки! За шутки мы не сажаем, черт вас побери! Шутки! Да вы понимаете, где вы находитесь?! Мы покажем вам шутки! Мы в бараний рог вас согнем! Мы покончим с этой гидрой! Речь идет о том, оставить ли вам жизнь – вам и вашим сообщникам, дерьму собачьему! А вы – шуточки! Осиное гнездо! Вздернуть всех на одной веревке! Нахохочетесь!
Он кричит, наверное, уже минут десять. Останавливается только, чтобы перевести дух и отхлебнуть глоток воды из стакана. И все продолжают стоять, как в столбняке. Не знаю, сколько бы времени это еще продолжалось, если бы на столе не зазвонил телефон. Главный берет трубку, и вдруг его облик преображается. Он как будто подрастает, почтительнейше изгибается в сторону телефонной трубки, лицо разглаживается, даже начинает вроде как бы светиться.
– Есть! Так точно! Когда прикажете? Есть, иду!
Опустив трубку, он с не сошедшим с лица благоговением обводит подчиненных отсутствующим взглядом и с глубоким сознанием собственного достоинства (скорее, собственной ценности) объявляет: «Хозяин зовет!» (Значит, и над ним есть «хозяин»)! Потом капает из пузырька в маленький стаканчик капли (сердечные, вероятно) и тщательно их отсчитывает, шевеля губами. Все застывают в молчании. Обо мне он, наверное, и вовсе забыл.
Нет, вспомнил:
– В камеру! – опять орет он прежним фальцетом. – В камеру! В подвал!
Он поднимается, и все приходит в движение. Часть присутствующих окружают его, как окружают примадонну, когда после спектакля опускается занавес, другие выходят, и с ними выхожу я. На этот раз даже без специального конвоя, а может быть, я его просто не замечаю – я плохо вижу и еще хуже соображаю.
Я иду между моей следовательницей и пожилым, довольно полным следователем, который часто сидит в комнате Марии Аркадьевны и подбрасывает реплики при моих допросах.
– Вы видите, Федорова, что Мария Аркадьевна, – он кивает на нашу спутницу, – не может занести в протокол ваши показания о «шутке» – это просто невозможно. Это оскорбляет органы. Вы же неглупый человек, вы должны это понять! В конце концов, вы только затягиваете дело, мучите себя и нас. И ваших родных.
– Евгения Николаевна, – говорит мне следовательница, опускаясь на какой-то стул и называя меня в первый и последний раз по имени-отчеству, – Евгения Николаевна, вы же видите, что вашу версию я не могу внести в протокол.
Голос тоже совершенно другой – ее словно подменили. Перед лицом «самого» мы, обе, как будто стали провинившимися сообщниками. Я – потому что затягиваю следствие, она – потому что не может самостоятельно добиться его окончания. Вероятно, по графику дело давно должно быть уже закончено.
Голос ее звучит вкрадчиво, дружелюбно и почти просительно:
– Вы же понимаете?
Да, я понимаю. Я понимаю, что сопротивление бесполезно. И уж лучше гибнуть мне, чем тянуть за собой маму и Юрку – моих «сообщников». Видя, что я все еще колеблюсь, Мария Аркадьевна подбрасывает мне последнюю подачку:
– По-вашему, вы сказали в шутку. Но мы не можем это так расценить и записать в протокол как «шутку». Мы запишем в той редакции, в какой понимаем ваше высказывание. На суде вы объясните, как считаете вы, – это ваше право. Да нет, вот даже сейчас я дам вам бумаги сколько хотите, и вы не торопясь напишете, изложите все, что вы находите нужным. Мы присоединим к делу. А пока, пожалуйста, подпишите протокол, из-за которого мы с вами потеряли столько времени.