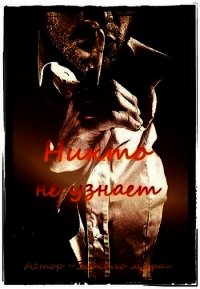Возвышающий обман - Кончаловский Андрей Сергеевич (читать книги онлайн полностью без сокращений txt) 📗
Я смотрю на них, думаю о том, что наши народные артисты, заслуженные художники, выдающиеся ученые так одеваться, так жить, отдыхать, пить французское вино могут только мечтать.
Почему вещная сторона зарубежной жизни производила на советского человека такое впечатление? Бедность... Даже в обеспеченной семье – бедность, унылость, скудость быта. До сих пор с завистью смотрю на дорогие машины. Видимо, это уже въелось в подсознание... Я – из страны «третьего мира»...
Летом 70-го года я шел по улице Горького, повстречал Кешу Смоктуновского, с которым нас уже связывали и дружба, и ссоры, и ревность к Марьяне Вертинской, и обида, что он отказался играть Рублева. Я был свободен как птица, никаких творческих планов. Зашли в кафе «Мороженое» на углу Горького и Пушкинской площади. Там подавали лучшее в мире крем-брюле.
– Давай сделаем что-нибудь вместе, – сказал я. – Чтоб не откладывая можно было поставить.
– Давай, – говорит он. – Я сейчас царя Федора репетирую. Может, его и снимем?
– А что еще?
– Можно «Дядю Ваню».
– Давай «Дядю Ваню».
Выпили шампанского. Я вышел из кафе, свернул направо в Гнездниковский, зашел в Госкино. Не помню уже к кому. Кажется, к Кокоревой. Сказал, что хочу ставить Чехова.
– Что?
– «Дядю Ваню».
– Замечательно!
Неужели так можно было решать?! Может быть, это было совсем не так. Но сейчас мне кажется, что было именно такое легкое решение, какого ни прежде, ни потом у меня уже не было. Писать сценарий не надо. Я даже в титрах не поставил: «Сценарий А. Кончаловского», написал – «Пьеса А. П. Чехова» (хотя гонорар мне заплатили, что, как всегда, было очень кстати). Главное и единственное, что требовалось, – не искалечить пьесу. Для этого нужно было сохранить минимальное количество текста с максимальным количеством пауз, трехчасовую пьесу – уложить в экранные час сорок. Предстояло сделать очень деликатную вивисекцию, попрятав все швы, что мне, кажется, удалось.
Как всегда, приступая к фильму, я потащил в него отовсюду, со всех периферий и окраин все, что могло здесь стать строительным материалом. Занялся Чеховым очень серьезно. Мысли из записных книжек, из писем, все, касающееся его драматургии, и в частности «Дяди Вани», – все мне было необходимо.
Примерно в это же время Карасик ставил «Чайку». Я видел какой-то материал оттуда и, помню, неприятно поразился искусственности чеховских монологов. В чем дело? Не в том ли, что слова звучали на открытом воздухе, в реальной среде, с цветочками, птичками и шмелями? Может быть, реальность атмосферы обнажила искусственность чеховского театрального диалога? Сравнивая чеховские диалоги в его прозе и в его пьесах, нетрудно убедиться, что они принципиально разные. В прозе – исключительно органичны, ничего напыщенного, условного в них нет. А вот театр Чехова – это развитие театра «модерн», что он и сам признавал. Развитие традиций Ибсена, Гауптмана, Метерлинка. Он даже говорил: «Хочу сделать такой театр, чтоб уж декаданснее быть не могло» (что-то в таком духе). Чеховская драматургия и его диалоги истинно театральны. Поэтому я решил не выводить ни одной сцены на натуру, а замкнуть все в интерьерах. Интерьер – среда искусственная, созданная человеком. Это не природа. Недаром так фальшиво звучит опера, снятая на улице («опера днем»), даже у больших режиссеров, скажем у Лоузи в «Дон-Жуане». Насколько естественнее она у Бергмана в «Волшебной флейте», снятой в театральных декорациях! Это условное зрелище полно безусловности и правды, ибо условно все. В этом смысле «Дядя Ваня» был для меня познанием законов условного и реального в кинематографе.
Вообще картина шла легко. Начиная со сценария – я справился с ним за две недели. Начал актерские пробы. Подумал, что было бы интересно вдобавок к Смоктуновскому собрать здесь и других титанов. Позвонил Бондарчуку в Италию (он в это время снимал там «Ватерлоо»), предложил Астрова. Он быстро перечитал пьесу, согласился.
На роль Серебрякова позвал Бориса Андреевича Бабочкина, Чапаева из фильма Васильевых. Начали репетировать. Я по ходу дела пытался ему что-то деликатно подсказывать – со всем почтением к его таланту и возрасту. «Молодой человек, – отрубил он. – Вы мне не подсвистывайте. Я со свиста не играю. Я сам». На этом наша совместная работа кончилась. Роль Серебрякова досталась Зельдину, замечательному артисту и очаровательной личности.
Роль Елены Андреевны согласилась играть Ирина Мирошниченко, с которой я прежде не был знаком: мы встретились на пробах. Удивительно гибкая актриса, старательная. На Соню долго никого не мог найти. Поехал в Ленинград. Посмотрел там какую-то телевизионную картину и увидел молодую актрису. Физически это был абсолютно мой тип – курносая, с пухлыми губами, очень трогательная. Я увлекся. Понял, что это и есть Соня. Утвердил, не пробуя. Точнее, пробы были, но неудачные.
«Не страшно, – подумал я. – Поработаем – добьемся результата».
Начали снимать – у девочки полный ступор. Снимаем одну сцену, вторую – вижу, плохи дела. Актриса не тянет. Бондарчук посмотрел материал.
– Ну что ты делаешь? Ты же завалишь картину.
– А как быть? Я уже начал ее снимать!
– Возьми Купченко! У тебя ж есть такая актриса!
Этим он словно бы дал мне индульгенцию на смену Сони. Я позвонил Купченко, буквально бросился ей в ноги:
– Ира, выручай!
Она согласилась. Опять меня выручила Ириша. Спасибо ей! Начали переснимать.
Еще у меня снимались Анисимова-Вульф, Николай Пастухов. Ансамбль получился прекрасный. Художником был Коля Двигубский.
Я старался увидеть героев не такими, как их интерпретировал МХАТ, а такими, какими, на мой взгляд, их понимал автор. Станиславский в Художественном театре делал из «Дяди Вани» достаточно романтическую историю, а Астрова играл почти как аристократического Дорна из «Чайки» – ходил по сцене в белой шляпе, дорогих костюмах. Это был идеологизированный интеллигент, хотя Астров совсем другой. Чехов слишком хорошо знал жизнь уездных докторов. Вспомните доктора в «Палате № 6» – он, как и Астров, выпивает, имеет вид небрежный и даже неопрятный, просто в силу того, что быт такой. Астров мне виделся человеком опустившимся, ходящим в мятом пиджаке. Недаром в пьесе говорится о неудачной операции, которую он сделал, о больных, лежащих на полу вместе с телятами. Елена Андреевна говорит об Астрове: «Талантливый человек в России не может быть чистеньким и трезвым». А Станиславский делал из Астрова чистенького и трезвого борца за народное будущее.
В том же заблуждении пребывал и Бондарчук. Он хотел выглядеть аристократично, сшил себе в Италии роскошно сидевший на нем костюм, курил итальянские сигариллос. Мое видение образа натолкнулось на непреклонное и суровое сопротивление. Для Сергея азбукой и хрестоматией был мхатовский спектакль. Мне нравилось испитое лицо актера, а он хотел выглядеть без морщин. Говорил, что его плохо осветили. Посмотрев материал, сказал:
– Ну, смотри: это же не лицо, а ж..а! Надо переснимать!
Спорить было трудно, он все-таки звезда. Я очень любил Сергея, конечно же, он великий артист. Но ордена, звания, общественное мнение, к которому он прислушивался, принижали его талант. Когда он хотел быть правильным, у него получалось общее место. Хрестоматия. Он был способен на гораздо большее. Это актер уровня Рода Стайгера, с которым он только что работал на «Ватерлоо» и много о нем рассказывал.
Наш конфликт развивался. Бондарчуку казалось, и он открыто говорил об этом, что я снимаю не Чехова, а какую-то чернуху. Тогда такое слово не было в ходу, но смысл был именно таков. Потом я даже выяснил, что Бондарчук ходил в ЦК и сказал:
– Кончаловский снимает антирусский, античеховский фильм.
Слава Богу, к нему не прислушались.
Смоктуновский как актер был совсем иным. Своей концепции не имел; как настоящий большой артист был гибок и, в отличие от Бондарчука, мне верил. Сергей – лев, с ним работать надо было поделикатнее. Держать дистанцию. Перестав мне верить, он с подозрением относился к любому моему предложению, боялся, что на экране будет выглядеть алкоголиком, а не интеллигентом, каким себе представлял Астрова. Не думаю, что Бондарчук понимал Чехова. Посмотрев его «Степь», я сказал ему об этом. Он насупился, обиделся – к счастью, ненадолго. Мы любили друг друга.