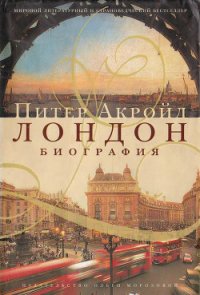Три жизни Алексея Рыкова. Беллетризованная биография - Замостьянов Арсений Александрович (читать хорошую книгу полностью txt, fb2) 📗
Наконец 8 июня 1909 года в Париже началось первое заседание расширенной редакции «Пролетария», и открыл его именно Рыков, он же Власов. Ленин еще раз подчеркнул решающее значение рыковской позиции в эти дни — и пытался закрепить свой союз с влиятельным и достаточно строптивым партийцем. И Алексей Иванович оправдал доверие: на совещании он дал отзовистам резкую оценку, отметив, что они уводят партию от истинных революционных целей социал-демократии. Ленину это и требовалось — слово товарища Власова, известного своей умеренностью по отношению к разнообразным «уклонам», звучало в те часы особенно веско. А для Рыкова это был очередной компромисс — на этот раз с товарищем Лениным. Ведь в глубине души Алексей Иванович оставался противником полного разрыва с отзовистами.
Одним из самых острых стал вопрос о Каприйской школе — этом детище Богданова и Горького, которое выпестовали всё те же «впередовцы», давшие своему начинанию громкое название — «Первая Высшая социал-демократическая пропагандистско-агитаторская школа для рабочих»! Там преподавали и Красин, и Луначарский, и Михаил Покровский — будущий вожак советских историков. Меценатами школы, кроме буревестника революции, были нижегородский купец Василий Каменский и даже прижимистый бас Федор Шаляпин. Все — волжане и приятели Максима Горького.
Рыков не поддержал и эту громкую инициативу, окрестил школу «троянским конем». Он заявил, что не готов «брать за нее ответственность». Кстати, эти рыковские слова вошли в резолюцию совещания. Расширенная редакция «Пролетария» (а по существу — Большевистский центр) приняла решение отмежеваться от отзовистов и богоискателей. И Рыков в борьбе за эту резолюцию чрезвычайно помог Ленину. Еще одно важное решение большевики приняли в надежде сплотить партию. И снова это был проект Рыкова (скорее всего, предварительно согласованный с Лениным). Алексей Иванович подал идею реорганизации Большевистского центра на основе строгой дисциплины. Например, товарищей, которые шесть месяцев не ведут партийной работы, он предложил считать «выбывшими». «Уважительной причиной» для инертности признавались только тюремное заключение или ссылка. Словом, в те дни в Париже Рыкову удалось блеснуть. А в пику Каприйской школе большевики вскоре организовали Партийную школу в Лонжюмо, под Парижем. Там лекции читали, кроме Ленина, приятель Рыкова Семашко, Инесса Арманд, Зиновьев и Каменев. Партия раскалывалась на всех уровнях… Пройдет время — и многие каприйские гуру примирятся с Лениным, вернутся под его крыло. Но в 1909 году это казалось маловероятным.
Задерживаться в Европе Рыков не стал, вернулся в Россию в начале июля, в несколько растерянном настроении. Тут же он провел встречу с членами Московского комитета партии, на которой держался осторожно и сдержанно, опасаясь провокаторов. Он в самых общих чертах (не задерживая внимания на противоречиях и спорах) рассказал им о парижской встрече.
Тогда, в 1909 году, русская революция казалась чем-то далеким и почти невозможным. Нелегальная работа потеряла тот кураж, который привлекал к ней молодых людей еще пять-десять лет назад. Рыков — один из немногих подпольщиков — по-прежнему действовал энергично. За ним следили, филеры старались не упускать Рыкова из виду — в донесениях он проходил под кличками Глухарь и Ночной.
Арестовали его снова с фальшивыми документами — с паспортом на имя харьковского мещанина Ивана Андреевича Билецкого. За проживание по чужому документу полагалось всего лишь от двух до четырех месяцев тюрьмы. Но после каталажки, без суда, неугомонного подпольщика в административном порядке решили выслать в Архангельскую губернию, подальше от партийных комитетов.
В конце марта 1910 года он прибыл в Архангельск. Оттуда Рыкова должны были переправить в Усть-Цильму, старинный городок на Печоре, возле устья рек Цильмы и Пижмы. Медвежий угол, напрочь оторванный от мира, который с давних пор облюбовали староверы. Суровое место для ссылки! Рыкову удалось доказать, что столь дальняя ссылка опасна для его здоровья — ведь он страдал серьезной «болезнью уха». Здоровье Алексея Ивановича действительно подводило уже в молодые годы, но он, как и некоторые другие нелегалы, еще и несколько преувеличивал свои недуги — из тактических соображений. Власти проявили гуманизм — и отправили Глухаря в Пинегу, где он уже бывал и где проживала в ссылке его сестра. Власти удовлетворили еще одно ходатайство Рыкова. Ссыльным, окончившим гимназию или реальное училище, предоставляли сравнительно приличное пособие — как дворянам. 13 рублей 62 копейки. Алексею Ивановичу удалось доказать, что он окончил Саратовскую гимназию, — и тем самым поправить свое материальное положение. В эти дни в нем заговорил юрист, хотя и недоучившийся!
Пинега считалась одной из «столиц ссыльных». Политических в уезде насчитывалось примерно 30 % от всего населения. Эсеры, большевики, меньшевики, анархисты и просто неблагонадежные… Далеко не все ссыльные были твердыми приверженцами какой-либо партии, встречалось и немало колеблющихся, революционно настроенных интеллигентов. Рыков со многими поддерживал приятельские отношения, но партийные различия все же имели значение. Они спорили, каждый отстаивал свою правду — так и коротали бесконечные северные вечера. Оптимизма тогдашним революционерам не хватало, многие чувствовали себя проигравшими. Рыков среди них, конечно, считался звездой первой величины — как-никак, не только один из первых, но и один из главных социал-демократов, член ЦК, участник съездов. И он не разочаровывал: деятельный, не умеющий попусту растрачивать дни.
Почти молниеносно Рыков сколотил в Пинеге небольшую, но спаянную большевистскую организацию. На первых порах — 18 человек, включая самого Алексея Ивановича и Фаину. Ссыльные воспринимали собрания этой небольшой ячейки серьезно, многие относились к партийной деятельности как к высокой миссии, как к главному делу жизни. Поэтому они даже избрали руководящий орган — бюро из четырех человек, во главе которого встал, разумеется, Алексей Иванович. С товарищами по движению он доверительно делился — конечно, не в деталях — воспоминаниями о европейских встречах Большевистского центра. Как говорили в старые времена — «разъяснял линию партии». Тем более что споры с отзовистами в те дни интересовали всех большевиков. На берегах Пинеги подпольщикам почти не мешали совещаться, наблюдали за ними без особого пристрастия. Все равно они, как казалось властям, не представляют опасности, пребывая чуть ли не на краю света. Рыков и сам понимал: в Пинеге можно только разглагольствовать, штудировать чужие труды или писать собственные. Но ни журналистского, ни литературного зуда он не испытывал, его тянуло в «действующую армию» партии. Рыков не мог внушить себе, что одними разговорами можно приближать революцию…
За ссыльными следили, устраивали обыски, но особого рвения полиция при этом не проявляла. Опасались только побегов, а нелегальная литература в Пинеге ходила вовсю — конечно, подпольно. Именно поэтому зимой слежка ослабевала: считалось, что побег в морозную и снежную погоду практически невозможен, и полиция предпочитала в мрачные студеные месяцы сквозь пальцы присматривать за жизнью ссыльных. Этим и воспользовался Алексей Иванович. 8 декабря надзиравший за политическими господин Некрасов сообщил, что Рыков не ночевал дома… Допрос сестры ничего не дал. Пропавшего стали искать у других ссыльных, с которыми Рыков приятельствовал, но нигде не нашли и следов Алексея Ивановича. Никто не мог поверить, что в такую непогоду этот болезненный интеллигент решился на побег. Стояли морозы, дороги засыпал снег — глубокий, вязкий. А до ближайшей железнодорожной станции — сотни верст. Подробности этого рискованного побега до сих пор неизвестны. Конечно, Рыков не мог обойтись без помощи местных жителей — скорее всего, староверов, которые за небольшую плату подсобили ему совершить бросок до железной дороги. Лошадки у них имелись. А полиция очнулась слишком поздно и, рассчитав, что за несколько дней ссыльный, скорее всего, погиб в снегах, прочесала только ближние окрестности… Из нынешнего времени такая халатность полиции выглядит странно. Но мы рассматриваем ситуацию, учитывая исторический опыт 1917 года. Такого опыта у «царских сатрапов» не могло быть — и они, даже после 1905 года, недооценивали революционеров-подпольщиков. В особенности тех, кто, подобно Рыкову, не имел отношения к терроризму, ко взрывам. В них мало кто видел серьезную силу, которой стоит бояться. А к побегу в морозную неизвестность полицейские могли относиться как к «барской причуде». Тем более что Рыков и на служителей правопорядка умел производить благоприятное впечатление: обстоятельный, улыбчивый, он нисколько не походил на безумного фанатика. Нужно сказать, что взаимоотношения подпольщиков и полиции тех лет напоминают игру в поддавки — как будто служители правопорядка не слишком хотели защищать престол, даже после грозного предупреждения 1905 года. По крайней мере, социал-демократы явно переигрывали их по целеустремленности и преданности делу — даже когда их дело казалось безнадежным. А полицейским просто лень было идти по следам беглеца в скверную погоду, допрашивать суровых и хитроумных «аборигенов». Это скажется и в 1917 году, и во время Гражданской войны — и в действиях представителей власти, следивших за пинежскими ссыльными, можно усмотреть предпосылки будущего политического кризиса и распада империи. А в революционной среде побег Рыкова произвел сенсацию.