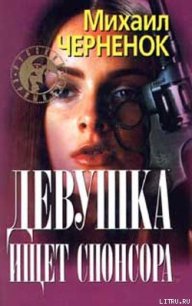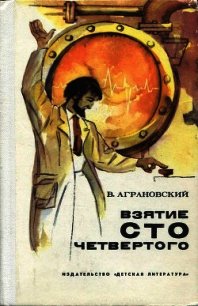Кто ищет... - Аграновский Валерий Абрамович (электронную книгу бесплатно без регистрации .txt, .fb2) 📗
Но у Игнатьева опять вышел прокол! Собрание хоть и осудило мэнээсов за «бытовку» — этот нелепый термин уже ходил по станции с легкой руки Антона Васильевича, — а все же избрало Гурышева председателем месткома. Почему так случилось, даже сегодня никто не может взять в толк. Григо выдвинула Алексея кандидатом, в противовес ему Игнатьев назвал бухгалтера, а люди, наверное, подумали, что председатель месткома — это, как ни крути, отпуска, это какие-то деньги; это жилье, и во всех подобных делах самостоятельность Гурышева не шла ни в какое сравнение с самостоятельностью бухгалтера.
И тут уже круги пошли перед глазами Игнатьева: от злости и испуга. Был на исходе десятый день с момента подачи мэнээсами заявлений, Диаров все еще задерживался, пупки в рассоле исходили избыточным соком, — надо было на что-то решаться. Не отпускать же, в самом деле, дезертиров со станции «без ничего»!
На одиннадцатый день Игнатьев издал приказ об увольнении Григо «за нарушение трудовой дисциплины». «Правильно! — санкционировал Диаров по телефону. — Она зачинщица, без нее они сразу прижмут хвосты! Теперь их пряничком попробуй, понял? А я скоро буду, потерпи немного. И действуй!»
Действительно, почему бы не прижать теперь мэнээсам хвосты с помощью «пряника»? И рядом с приказом об увольнении Григо появился на той же доске второй приказ, подписанный Игнатьевым: о предоставлении Юрию Карпову трехмесячного творческого отпуска!
Ну, знаете!
Станция с интересом ждала реакции бунтовщиков. Было известно, что сидят они, запершись, в комнате Карпова, куда после увольнения переехала Григо, поскольку Карпов уже давно ночует у Гурышева, что с ними этот самый писака из «Областного комсомольца», что время от времени оттуда доносится хохот, а иногда песня «Бабье лето» под гитару, а то вдруг наступает гробовое молчание. После одной такой тишины из комнаты вышел Карпов, важно прошествовал в кабинет Игнатьева, задержался там ровно на десять секунд, вероятно, сказал что-то, после чего Игнатьев собственноручно содрал с доски приказов бумажку об отпуске Карпову.
Юрий Карпов, по единодушному мнению своих товарищей, «прямо на глазах становился человеком». Его походу в кабинет Игнатьева предшествовала клятва мэнээсов: в комнате, «при закрытых дверях», они дали торжественное обещание быть откровенными друг с другом, никаких тайн не держать, о поступках своих и намерениях объявлять заранее. Карпову было труднее, чем Алексею и Марине: и больше соблазнов, и меньше сил. Но то, что он стал участвовать в борьбе, приподняло его не только в глазах друзей, а даже в собственных. Он заговорил несвойственными ему прежде словами, стал делать несвойственные ему прежде дела. Юрий стал лучше и чище. И он верил своим товарищам! — это было для него настоящим спасением. «Юрка! — не уставала говорить Марина Григо. — Ты человек!» Он и правда тогда вдруг понял, что к заветной цели можно и нужно идти честным путем.
Истекли двенадцать дней, но Карпов с Гурышевым все же вышли на работу, хотя закон позволял им не выходить. Они еще надеялись на благоприятный исход, эту надежду вселил в них визит Бори Корнилова. В один прекрасный вечер он явился, как это было однажды, в галстуке и начищенных туфлях, сел на стул, не произнес за полтора часа ни единого слова, послушал, как журналист из Областного поет под гитару свое «Бабье лето», а перед уходом коротко сказал: «Завтра в четыре к Никитину. Я договорился».
Никитин был инструктором райкома партии. Они отправились втроем, в кабинете у Никитина застали Борю Корнилова, который опять промолчал, пока они вели беседу. Инструктор внимательно выслушал мэнээсов, обещал доложить «первому» и слово свое сдержал. Результатом было бюро райкома, на которое пригласили одного Игнатьева, и, вернувшись, он дал в Областной «SOS!». Бросив все на свете, в том числе и Рыкчуна, Диаров кинулся на помощь.
Стало ясно, что все теперь зависит не столько от Антона Васильевича и даже не от Диарова, сколько от того, как поведет себя коллектив станции. В райкоме так и сказали Игнатьеву: «Мы вмешаемся после того, как разберетесь вы сами, обсудите положение на коллективе и вынесете решение. Одно из двух: или станцию придется укреплять новым руководством, или подыскивать новых мэнээсов. У вас на редкость гнилая обстановка».
Диаров засучив рукава стал готовить общее собрание.
Как-то вечером Алексей Гурышев вошел к нему в кабинет, под который он на скорую руку оборудовал комнату бухгалтера, чтобы договориться о Марине Григо. Дело в том, что первым распоряжением Диарова, переданным Марине и журналисту из Областного через Игнатьева, было требование «убираться со станции к чертовой матери». В кабинете толпился народ, и, когда вошел Гурышев, общий разговор тут же оборвался.
— Тебе чего? — спросил Диаров.
— Я по поводу Григо… — начал Гурышев, но Диаров его перебил:
— Не знаю такой! В списках сотрудников станции Григо не значится!
— Ну и что? — спокойно возразил Гурышев. — Сегодня она не значится, а завтра, может, нас с вами не будет.
— У тебя все? — сказал Диаров. — Странно ведешь себя, Гурышев. Ты письмо от Рыкчуна получил? Вдумался бы! — Вот где только Алексей сообразил, что к чему. — А теперь очисть помещение. У нас закрытое партсобрание.
— Какое ж закрытое, если вы не член партии! — сказал Гурышев, но повернулся и ушел походкой чемпиона мира по боксу.
Ему было ясно: распределяют роли. В двенадцать ночи, съев, вероятно, хорошо просолившиеся пупки, они пели хором «Амурские волны».
18. РАСПРАВА. КОНЕЦ
Утром того дня, на которое было назначено общее собрание, Марина Григо кормила во дворе станции кота Джона. Кот принадлежал Игнатьеву. Два года его звали Дженни, пока случайно не выяснили, что он мужчина. Так из Дженни он превратился в Джона, хотя ему было все равно.
Он здорово ловил крыс. Когда-то, до него, они нагло шуровали по станции, а тут не выдержали и однажды, собравшись, дружно покинули жилой и рабочий бараки и перебрались в поселок, оставив следы на снегу. Джон горевал недолго и принялся за ласточек. Станция была, пожалуй, единственным местом в округе, где водились ласточки. Все началось с одной пары, которая, откуда-то прилетев, прижилась, а потом их стало больше пятидесяти. Джон бил ласточек артистически: влет. Он был истинным извергом, ему за это крепко доставалось, у него даже деформировалась голова и приплюснулась морда: настоящий пират, еще бы черную повязку на левый глаз, прищуренный от битья, и пистолет за пояс. Избил Джона Игнатьев, который очень любил ласточек, но, вопреки всякой логике, кот души не чаял в Игнатьеве: всегда провожал его на работу и встречал, терпеливо высиживая у дверей рабочего корпуса. Правда, был еще один человек, к которому Джон относился душевно: Марина Григо. Но это было как раз естественно и объяснимо, поскольку только она кормила кота из собственных рук, освобождая его от необходимости добывать себе пищу трудом.
Джон был очень хитер. В течение дня он демонстрировал окружающим полное презрение к ласточкам и даже мертвых птиц обходил за триста шагов. Зато ночью, когда все укладывались спать, он брал пистолет, перевязывал глаз черной лентой и гнусно пиратствовал. Застукать его за этим делом никак не могли, но следы пиратства в виде ласточкиных перышек на хитрой морде Джона Марина обнаруживала довольно часто.
Так вот она кормила Джона, когда подошел к ней лаборант Володя Шитов, молча постоял рядом, а потом сказал, не отрывая взгляда от кота, как будто обращался к Джону:
— Это верно, что вы все ходили в райком?
— Верно. А что?
— Да нет, просто так, — сказал Володя, погладил Джона и ушел.
Много позже он сказал мне, что именно тогда, утром, после короткого разговора с Мариной Григо, он окончательно решил для себя, с кем будет на собрании: не с мэнээсами. При всем своем желании Володя никак не мог понять логику их борьбы. Чего они хотели? Разговор с ними на эту тему не получался, они сторонились всех сотрудников станции, в том числе и Володи, а Игнатьев с Диаровым, которые перед собранием специально переговорили с Шитовым, дали довольно четкое объяснение: мол, мэнээсы рвутся к власти, хотят всех подмять под себя, сводят личные счеты. С кем? С Игнатьевым? Его как руководителя Володя считал знающим человеком, в своем деле «тумкающим». Правда, Антон Васильевич был груб, несдержан на слово, «не всегда терпим», однако это вовсе не значило, что надо было подавать «коллективку» об уходе. Внешне — по крайней мере, так казалось Шитову — дела у мэнээсов складывались удачно, особенно у Карпова и Гурышева. Один имел почти готовую диссертацию, другой был занят лабораторией, несколько месяцев бился за реактивы и оборудование, достал их наконец, прекрасно наладил дело и вдруг полез в такую кашу! «Ну ладно, — думал Шитов, — Марина Григо в нее полезла, так у нее, быть может, есть основания, она, быть может, действительно не ладит с Игнатьевым и сводит с ним какие-то личные счеты. А Гурышев? Кроме как потерять, он ничего в этой драке не приобретет, и, если он не дурак — а он не дурак! — какие такие «особые» соображения заставляют его действовать с Мариной заодно? Нет, это не борьба. Это показуха!» А коли так, коли мэнээсы решили почему-то и для чего-то всех попугать, Володя считал этот метод недостойным. Кроме того, его возмущал поход мэнээсов в райком партии, где они «положили пятно на весь коллектив», как сказал ему Диаров, и Володя поверил шефу, потому что и сам понимал: если не для «пятна», то зачем еще ходить в райком накануне собрания?