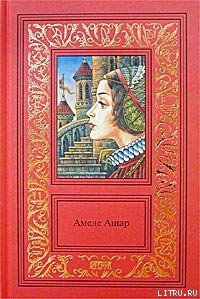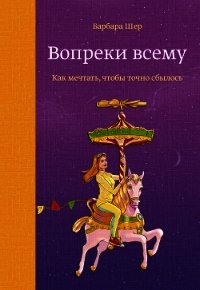Берлиоз - Теодор-Валенси (бесплатная регистрация книга txt) 📗
Здесь царило возбуждение, созвучное бегу крови в жилах Гектора. И со всей Европы знаменитые музыканты стекались в эту страну музыки.
Душа Гектора хранила траур, хотя его жизнь и обогащало знакомство с гениальными собратьями — в частности, с Феликсом Мендельсоном [47].
Здесь стоит остановиться на отношениях между двумя музыкантами. Оба были молоды (Гектору тогда было двадцать восемь лет, Феликсу — двадцать два), вдохновенны, обоим была уготована слава.
Хотя это сближение было лишь эпизодом в жизни нашего героя, попробуем ответить, проявил ли немецкий композитор интерес к Гектору, понял ли его. Нет, этого не было. Не зависть ли питала его? Возможно. Чтобы уяснить их взаимные чувства, достаточно привести два письма. Вот что писал Берлиоз о Феликсе Мендельсоне Гиллеру, который все еще оставался его наперсником и другом:
«Это замечательный парень; его исполнительский талант так же велик, как и музыкальный, а это, по правде говоря, что-нибудь да значит. Все его произведения меня восхитили; я твердо верю, что он один из самых высоких музыкальных талантов эпохи. Он-то и был моим чичероне. Каждое утро я заходил к нему. Он играл мне сонату Бетховена, мы пели „Армиду“ Глюка, потом он вел меня осматривать знаменитые развалины… Это огромный, необычный талант — великолепный и чудесный. Из того, что я так говорю, не следует подозревать меня в товарищеском пристрастии. Он чистосердечно сказал, что ничего не понимает в моей музыке».
Пример нравственной чистоты и беспристрастности, говорящей в пользу Гектора [48].
А теперь посмотрим, как высказался Феликс о Гекторе и Монфоре — другом академике с виллы Медичи. Он сурово писал матери:
«На страстной неделе… двое французов снова утащили меня „бродить“. Видеть этих двух людей рядом друг с другом — и трагично и смешно, как угодно, Берлиоз, какой-то кривляка без тени таланта, ищет ощупью в потемках, почитая себя творцом нового мира… При этом пишет самые отвратительные вещи, и ко всему тщеславен беспредельно. Он с нескрываемым презрением относится к Моцарту и Гайдну, и потому весь его энтузиазм мне кажется крайне наигранным. Второй, Монфор, уже три месяца работает над маленьким рондо на португальскую тему, сочетая в работе скрупулезность, блеск и точность. Потом он намерен взяться за сочинение шести вальсов и умер бы от счастья, если бы я сыграл ему бесконечные венские вальсы… Мне хочется терзать Берлиоза до тех пор, пока он не станет вновь восхищаться Глюком. Тогда я буду с ним согласен. Я охотно прогуливаюсь с ними двумя, это выглядит прекомичным контрастом. Ты пишешь, дорогая матушка, что X., должно быть, к чему-то стремится в искусстве. Тут я с тобой не согласен. Думаю, он хочет жениться, и он действительно хуже других, так как из всех самый неестественный. Я решительно не могу выносить его наигранный энтузиазм, эти разочарования, рассчитанные на дам, и гений, провозглашенный во всеуслышание».
Какая резкая противоположность! Точно так же восторженный Гектор, исполненный восхищения и почтения, писал когда-то Гете, а Цельтер — наглый музыкант олимпийского бога — заявил: «Некоторые люди при всех случаях знаменуют свое присутствие и участие лишь громким харканьем, чиханием, откашливанием… Похоже, что Гектор относится к таким людям».
Касаясь отношений Гектора и Мендельсона, мы могли бы сказать: два музыканта, два гения, две натуры. Наш выбор между ними двумя сделан.
Может быть, немецкий музыкант считает своим долгом питать восхищение лишь к своей стране?
V
Симфонии, звучавшие с неба и земли, знакомства с великими маэстро не гасили и не смягчали разочарованности Гектора.
Он нес свою скорбь, причинявшую ему страдания, словно романтично наброшенный черный плащ.
— Я хочу вернуться во Францию, — повторял он доброму Орасу Вернэ. — Хочу знать, где она, что думает, что делает. Неведение гнетет и убивает меня.
— Имейте в виду, Берлиоз, что, потеряв стипендию, вы потеряете навсегда и право сюда возвратиться.
Однако совет и предупреждения оказались тщетными, и в страстную пятницу
1 апреля
Гектор покинул Рим. Любовь в его пламенной душе пересилила все другие чувства.
Вот он и во Флоренции.
Пожалеет ли Гектор о своем безумном бегстве? На восемь дней тяжелая ангина приковала его к постели, восемь дней он посылал проклятия на голову всему несправедливому человечеству — слепому и глухому к его бедам.
Наконец он спрыгивает со своего ложа и в неудержимой жажде поэзии отправляется на берег Арно, держа под мышкой излюбленное духовное яство — томик Шекспира.
Несколько дней кряду он приходит к реке читать, размышлять и мечтать под ласковый лепет доверчивых волн. Здесь он открыл страстно волнующего «Короля Лира», от которого, как он писал, «прямо-таки изошел восторгом».
Смерть, таинственная смерть — верная спутница отчаяния, — влечет и околдовывает его.
В вечерние часы, когда скорбно рыдают колокола, он любил проскользнуть в священную тишину церквей, где ладан будит в мыслях далекие образы, а сумеречный полумрак таит сокровенную тайну.
Поэты романтизируют смерть за то мрачное величие, в какое она облачена, в смерти они черпают невыразимое наслаждение жизнью.
Находя приют в этих храмах, Гектор ловит себя на том, что испытывает удовольствие от непривычных мыслей о небытии.
И однажды вечером в соборе, расписанном Джотто, другом Данте, его мечта словно бы материализовалась: он увидал, как из ризницы вышла длинная процессия людей в белом. Они были совершенно белы и мертвенно бледны, будто привидения; впереди шли мальчики из хора певчих, затем — священники, бормочущие заупокойную молитву.
Какая скорбная картина! Факелы, зловещие факелы — дрожащее пламя во всепоглотившей ночи.
Смутные мысли проносятся в его голове: «Вот он, всепожирающий огонь…»
И глядя на свечи, оплывающие крупными каплями: «Так, в слезах, течет и жизнь».
Но за факелами и свечами появляются кресты, в их золоте мерцает свет надежды; и кажется, будто кресты говорят: «Мужайтесь! Мы здесь!»
Гектор вновь бросает взоры на процессию и содрогается, его душа холодеет. Он крестится. Может быть, Гектор внезапно вернулся в лоно религии?
— Что происходит? — спросил он у молодого ризничего, который задел его в темноте.
— Una mammina morta al mezzo giorno col suo bambino! (Молодая мать с младенцем умерли сегодня днем!) Милостивый боже!
Гектор, охваченный состраданием и влекомый страшным зрелищем, последовал за процессией. Он печально двигался за ней по одинаково темным улицам, примолкшим и пустынным. И чем дальше он шел, тем больше ему представлялось, будто он погружается в потусторонний мир…
Остановились у дверей морга. По обычаю оставили здесь тело; оно будет ждать до полуночи, а затем продолжит путь к месту вечного приюта, вырытого на кладбище в земле, которая равняет всех. Родные, священники, мальчики из хора удалились — покойная должна привыкнуть к вечному одиночеству, Но Гектор не ушел. Он остался наедине с хранителем священных останков.
Тот спросил:
— Господин желает взглянуть на бедняжку?
Гектор в подтверждение кивнул головой.
Тогда служитель благоговейно приподнял тяжелую, уже омытую слезами крышку гроба, где вечным сном Ц спала женщина, настигнутая смертью в свои двадцать два года.
…Боже, боже! Как она прекрасна в своем коленкоровом платье, завязанном под стопами ног. О, как несправедлива судьба!..
У Гектора в памяти всплывают Офелия, Джульетта…
Прозрачная бледность поэтизировала умершую.
Возможно ль, что она — такая неземная — была простой смертной? Ее веки с бахромой шелковых ресниц скрывают глаза, перед которыми, быть может, проходят высшие сновидения, неведомые на этом свете. Золотые волосы обрамляют ее мертвое лицо — лик мадонны. Из носа вытекла тонкая струйка желтоватой жидкости. Уловив немую мольбу Гектора, служитель вытер ее лицо; и тогда Гектор вновь ушел в свое исступленное восхищение, к которому примешивались дрожь перед непостижимым и страх перед богом — тот страх, что возникает в возвышенные минуты [49].
47
В Риме также состоялось знакомство Гектора с Глинкой, которого спустя пятнадцать лет он представил парижанам, с Барбье — одним из авторов либретто его «Бенвенуто Челлини» и с поэтом Бризе, написавшим «Марию» и подсказавшим ему сочинение романса «Молодой бретонский пастух».
48
И, однако, Гектор Берлиоз преподал Феликсу небольшой урок, случай для которого представился сам собой. Ги де Пурталес писал:
«Их первая встреча оставила скорее всего кисло-сладкий привкус. Мендельсон попросил Берлиоза сыграть кантату „Сарданапал“, за которую тот был удостоен премии. Гектор откровенно признался, что находит ее плохой.
— Тем лучше, — воскликнул молодой Феликс (он отлично знал кантату, потому что Монфор ему ее играл), — тем лучше! Поздравляю вас с вашим вкусом. А я-то опасался, что вы будете довольны этим аллегро. Откровенно говоря, оно никуда не годится.
Эта уловка некоторое время спустя стоила ему ответного удара со стороны Гектора, не любившего оставаться в долгу по части насмешек. Однажды, положив на рояль ноты известной арии Астерии из оперы «Телемак» Глюка, он попросил Феликса исполнить ее, и тот, спародировав последние такты, написанные в типично итальянской манере: «О giorno! О dolci sguardi! О rimembrenza! О amor!» («Он думал что, они вышли из-под пера какого-нибудь сентиментального Беллини»), услышал, как Берлиоз холодно произнес:
— О, вы не любите Глюка?
— При чем тут Глюк?
— Увы, дорогой мой, эта ария написана им. Видите, я знаю его лучше, чем вы, и придерживаюсь вашего мнения… больше, чем вы сами!
Касаясь отношений между композиторами, интересно также привести строки, принадлежащие Кокару (серия «Знаменитые музыканты»):
«Тогда как Берлиоз восхищался чудесным, рано развившимся мастерством и поистине необычайной одаренностью молодого немецкого композитора, тот, спокойный, рассудительно-холодный, уже овладевший всеми секретами своего искусства, ничего не понимал в беспутном — гении французского музыканта. Обладая меньшей, чем Шуман, широтой взглядов, он с пренебрежением относился к симфонии и насмехался над композитором, не способным написать хорошую фугу. Мендельсон, быть может, и не ошибался: мы не найдем в Берлиозе выдающегося знатока контрапункта. Но молодой немецкий маэстро должен был угадать в нем гения, которому прощается все… А он абсолютно ничего не смог увидеть. И не из зависти, а просто оттого, что его натуре претило искусство, основанное лишь на вдохновении, фантазии и душевном подъеме.
Действительно, эти два человека находились на противоположных полюсах музыки. Сходились они только на одном — ненависти к итальянской музыке, которую в ту пору встречали овациями на всех подмостках музыкального мира».
49
Гектор Берлиоз так рассказывает в своих «Мемуарах» об этом мрачном эпизоде: «Она была прекрасна! Двадцати двух лет… в красивом платье из коленкора, завязанном под стопами ног. Ее волосы были слегка растрепаны. Из ноздрей и изо рта вытекла желтоватая жидкость. Я попросил, чтобы ей обтерли лицо, взял ее за руку. У нее была очаровательная белая рука. Я не в силах был отойти от нее, и будь я один, поцеловал бы ее… Я думал об Офелии…»