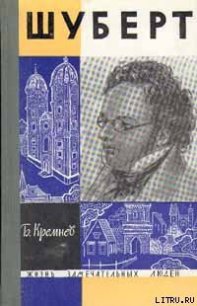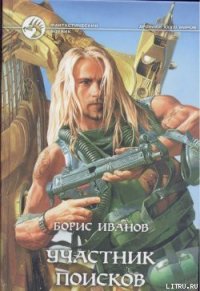Бетховен - Кремнев Борис Григорьевич (читать хорошую книгу полностью .txt) 📗
И, удивительное дело, Бетховен, тот самый Бетховен, что выходил из себя при малейшей помехе и грозно обрушивался на того, кто ему помешал, независимо от ранга и чина, стал с жаром уверять, что нисколько не сердится, а напротив…
А ведь совсем недавно он играл в одном из аристократических салонов и вдруг заметил, что некий всесильный вельможа перешептывается со своей соседкой. Бетховен, резко оборвав игру, крикнул: «Для этаких свиней я не играю!» – и выбежал из зала. И никакие уговоры не могли вернуть его назад…
Он суетливо помогал Джульетте раздеться, уверяя, что ему нисколько не помешали, что записывать он и не собирался, что все, однажды сымпровизированное, он запоминает напрочь, на долгие времена, и многое из того, что сочиняет, вынашивает годами, прежде чем нанести на бумагу.
Он говорил сущую правду. Только несколько лет спустя нафантазированное им в этот вечер зазвучит во второй и третьей частях бесподобной «Авроры» – Двадцать первой сонаты для фортепиано.
Гостьи улыбались – Джульетта лукаво и шаловливо, Тереза с мягким укором. Только сейчас Бетховену пришло в голову, что все это время они простояли на ногах: и кресла и стулья были завалены рукописями. Долго не раздумывая, он подбежал к креслам и смахнул на пол все, что громоздилось на них. Теперь гостьи смогли, наконец, присесть.
А он вместо того, чтобы развлекать их разговором, направился к роялю.
Бетховен знал, в чем его сила. Он играл. И это было сильнее любых обвораживающих слов.
Он играл и изредка посматривал на Джульетту. Она сидела не шевелясь, вытянув тонкую шею, чуть запрокинув лицо и прикрыв глаза длинными, густыми ресницами. А когда ресницы, вздрогнув, приподнимались, на него глядели темно-голубые глаза, и ясные и обжигающие.
И тогда ему казалось, что в комнату, где на окнах исходит слезами осень, вошла весна.
Когда на другой день Бетховен вернулся с прогулки, чтобы в условленный накануне час начать заниматься с новой ученицей, он в недоумении остановился перед дверью. Из квартиры доносился крик. Звонкий девичий голос кого-то бранил. Смачно, с видимым удовольствием, не стесняясь сильных выражений.
Открыв дверь, он удивился еще больше. Его слуга, отъявленный лентяй, не жалея сил, на четвереньках скреб пол. А рядом стояла Джульетта. Ее волосы были убраны под косынку, а из-под подоткнутого подола платья выглядывали крепкие икры ног. В руке она держала тряпку и, яростно размахивая ею, кричала, что только отпетый негодяй и бездельник, по которому давно соскучилась виселица, мог допустить, чтобы кабинет его хозяина превратился в свиной хлев. И что удивительнее всего, слуга, обычно сварливый грубиян, смиренно помалкивал, трудился в поте лица и время от времени примирительно бормотал:
– Пусть ее светлость графиня не изволит сердиться, все будет исполнено.
А ее светлость графиня, не ограничиваясь словами, протирала тряпкой крышку рояля, подсвечники, ноты, книги, на которых издавна слежалась пыль.
Увидев Бетховена, Джульетта ничуть не смутилась. Деловито кивнув ему, она продолжала работать – раскрасневшаяся, сердитая.
Лишь после того, как комната была приведена в порядок, она сбросила косынку, поправила растрепавшиеся волосы, одернула платье и, подойдя к Бетховену – степенно, с чопорным достоинством, – протянула ему руку.
Он смотрел на эту тонкую, нежную, перепачканную пылью и грязью руку и не знал, то ли изумляться, то ли восхищаться.
Джульетта оказалась хорошей ученицей. Она была от природы музыкальна, обладала отличным слухом и цепкой памятью. Ее крепкие, заостренные на концах, точно коготки, пальцы проворно и легко носились по клавишам.
Джульетта любила музыку. Музыка безраздельно поглощала ее. Как, впрочем, и все другое, занимавшее ее в данную минуту. Минута целиком владела ею. Она не знала и знать не хотела удержу ни в чем. Натура страстная, бурная, она мгновенно воспламенялась, но так же мгновенно и остывала.
Быстрый ум помогал ей схватывать на лету общие контуры явлений. До глубинной же сути их она не могла, да и не стремилась добраться. Ее не удручали долгие поиски истины и связанные с ними мучительные раздумья и тягостные сомненья.
Но она и не была пуста.
С ней было легко и нескучно.
Она с жаром набрасывалась на каждую новую пьесу. С разбега, легко и непринужденно овладевала ею. Но, наткнувшись на трудность, так же легко и с той же непринужденностью отступала. Поэтому ее игра была мила, иногда даже вдохновенна, но всегда далека от совершенства.
Вначале это сердило учителя. Бетховену претила ее мотыльковая легкость. Он, с малых лет привыкший считать искусство тяжким до изнурения трудом и любивший этот труд, выходил из себя. Каждый смазанный пассаж, каждая музыкальная фраза, сыгранная без чувства и выражения, вызывали его негодование. Он вскакивал со стула, топал ногами.
Джульетта хмурилась. Закусив губы и покраснев от злости, она повторяла неудавшееся место до тех пор, пока оно не начинало ладиться.
Но назавтра все повторялось сызнова. Дома у нее не хватало терпения закрепить найденное на уроке. И однажды Бетховен, взбешенный, схватил с рояля ноты и швырнул их на пол. В таких случаях другие его ученицы покорно нагибались, поднимали ноты, и урок шел своим чередом.
Джульетта же осталась сидеть за роялем. На его возмущенный вопрос, почему она не играет, она невозмутимо ответила, что не учила пьесы наизусть… Так пусть играет по нотам!… У нее их нет… Какого же черта она их не берет?… Ноты валяются на полу. Поднимать их она не намерена. Не она их роняла…
Бетховен опешил. Такого с ним еще не бывало. Он по-медвежьи неуклюже, боком прошелся по комнате. Дойдя до угла, искоса взглянул на Джульетту. Она смотрела на него и смеялась. Он хотел было зарычать, стукнуть дверью, убежать… И неожиданно для самого себя тоже рассмеялся. Потом тихонько подошел к роялю, нагнулся, поднял ноты и бережно поставил на пульт.
Урок продолжался.
С той поры она уже не раздражала, а умиляла его. Он умилялся удивительному, как ему казалось, сочетанию легкомыслия и серьезности, слабоволия и воли, празднолюбия и любви к труду, беззаботности и трогательно-нежной заботливости.
Он слишком дорожил временем, чтобы обращать внимание на свой туалет. Как-то она заметила, что у его рубашки рваный ворот. Через несколько дней, придя на урок, Джульетта принесла дюжину новых сорочек. Все до одной они были сшиты ее руками.
Отдавая свой подарок, она серьезно и с гордостью заявила, что Бетховен должен быть счастлив: его модистка – графиня.
Даже легкость, с которой Джульетта относилась к искусству и жизни, теперь не отталкивала, а притягивала его. Он теперь считал, что она по контрасту выгодно дополняет его.
Оставаясь один, Бетховен задумывался о себе и Джульетте и всякий раз при этом хитровато усмехался – да, сумрачному адажио надо стоять рядом с солнечным скерцо. Тогда и тьма сгустится, и свет воссияет ярче.
Чем больше он думал о ней, тем чаще хотелось видеться с нею. И постепенно получилось так, что и ему и ей стало недоставать друг друга.
В обществе пошли пересуды. Но Джульетту они нисколько не трогали. Ей, как говорила она, до всего этого не было никакого дела. Во всем, что касалось ее, существовал только один судья – она сама.
Это радовало Бетховена. Он любил смелость.
Но еще больше радовала редкостная способность Джульетты не быть навязчивой. Теперь они, что ни день, бывали вместе, но она никогда и ничем не стесняла его. Находясь с ней, он в любой момент мог остаться наедине с самим собой. Эта семнадцатилетняя девушка, в сущности еще девочка, обладала тактом зрелой и мудрой женщины. Он сравнивал ее со своей второй матерью – Еленой Брейнинг. Она так же, как Елена, в минуты, когда пред ним вдруг раскрывались далекие дали, видимые только ему одному, когда внезапно на него находил раптус и он переставал замечать все, что происходит вокруг, не только сама не мешала ему, но и делала все, чтобы оберечь его от несносного вмешательства посторонних.