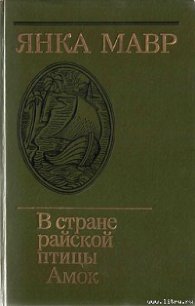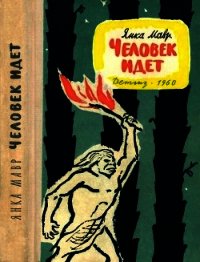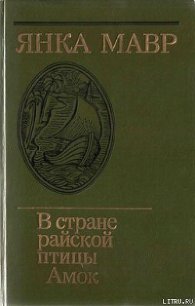Никогда не забудем! (Сборник рассказов белорусских детей) - Мавр Янка (книги полностью .TXT) 📗
Она не заметила, что я начинаю пухнуть, и подумала, что поправляюсь. Села я близенько-близенько около своей мамы. Мне так было хорошо, что я снова к ней прижалась. Много о чем говорила мне мама. Она сказала, как будет нам опять хорошо, когда наши побьют немцев.
— Только следи, Манечка, за Антосем и за всеми детьми.
Я ответила:
— Хорошо.
Очень приятно было сидеть с мамой, но время не позволяло. Сюда можно приходить только на два часа. Крепко-крепко мы поцеловались, и я должна была уйти. Шла спотыкаясь, цепляясь ногою за ногу.
Когда я вернулась в барак, Антон был уже мертвый. Пришли какие-то люди и унесли его. Назавтра нам приказали собираться на работу. Подъехали машины, мы погрузились и поехали. Куда не знали. Я очень боялась, чтобы не вывезли из города, потому что тогда я не увижу свою маму.
Остановились мы перед большой фабрикой. Вылезли из машины. Женщинам велели идти направо, а нам налево.
Каждому из детей была дана работа и приказано: «Работать всегда там, где поставили! Кто переменит место, получит пять плетей или двадцать четвертый барак».
Плети и двадцать четвертый барак были нам хорошо известны.
Около нашего барака стоял маленький домик, на нем надпись: «24-й барак — теплая вода». Загнав в него людей, немцы плотно закрывали двери и пускали газ. Отравленных собирали и клали в печь, где они сгорали. Пепел ссыпали около нашего барака. За этим пеплом приходили немки и брали его для удобрения своих огородов.
Кроме голодной смерти, нас ежеминутно ожидала еще более страшная смерть.
Меня поставили у какой-то машины, которая делала винтики. Работали с восьми часов утра до восьми часов вечера. Обеденный перерыв — один час. В двенадцать часов нам дали обед — тридцать граммов черного хлеба и такой же черный суп. Получив маленький кусочек хлеба, я его там же проглотила, суп выпила весь. Вдруг меня как укололи иголкой — я даже подскочила. Что я наделала, — съела весь хлеб и не оставила больной маме! От обиды даже слезы покатились, но хлеба не вернешь.
На другой день после завтрака мы построились парами и пошли по улице, держась правой стороны. По тротуару нам было запрещено ходить: там ходили немцы. У каждого из нас была нашивка на левом рукаве: «ОСТ». В нашем бараке каждому накалывали номер. У меня он и теперь остался на левой руке — 61606.
Поработав пять дней на фабрике, я выпросила выходной день — проведать больную маму. Бегу по знакомой дороге в госпиталь. Несу два кусочка хлеба и немного супа в котелочке. От радости сердце готово выскочить. Увижу маму, принесу ей подарок и опять к ней крепко прижмусь. Стучусь в знакомую дверь. Никто не отвечает. Открываю. Иду к тому месту, где лежала мама. Там пусто. Вслед за мной прибежал какой-то немец, начал топать ногами и кричать: «Тыф! Тыф!». Что он еще кричал — я не поняла. Поняла только, что все умерли.
Я выпустила хлеб и котелочек из рук. Немец схватил этот котелочек, стукнул им раз пять меня по голове и выбросил за двери.
Придя в барак, я плакала всю ночь. В моих глазах стояла мама.
Люди умирали, как мухи. С каждым днем женщин становилось всё меньше и меньше. Мы, дети, легче переносили голод и холод и разные болезни. После смерти мамы я пробыла в бараке два месяца.
Однажды, в субботу, вдруг исчезли все немцы. Мы стали расходиться кто куда. Каждый хотел достать что-нибудь поесть.
Город наполнился нашими солдатами.
Сколько было радости и счастья, когда мы встретили своих! Нас, детей, было очень много. Мы написали товарищу Сталину благодарность за освобождение.
Я до гроба буду помнить издевательства и горе, которые перенесла в неметчине.
Маня Кузменкова, 1932 года рождения.
Будслав, детский дом.
НОМЕР 79645
Когда фронт стал приближаться к Бегомлю, секретарь райкома партии сказал маме:
— Муж у тебя в армии. Тебе здесь оставаться нельзя. Уезжай с детьми.
— А на чем я поеду?
— Я достану; лошадь.
Свое слово секретарь сдержал. Мы погрузили на подводу пожитки, взяли продукты и поехали. Но немцы перерезали дорогу и забрали коня. Дальше ехать было не на чем, и мы пешком вернулись в Бегомль. Пожить здесь долго не пришлось. Знакомые предупредили мать, что нас всех могут арестовать, как семью коммуниста, и советовали уехать.
Мы собрались и в ту же ночь выехали в деревню Дроздово, Толочинского района. В ней жило много семей партизан и советских работников.
Однажды немцы окружили деревню. Всех жителей собрали и под конвоем погнали в Толочин в тюрьму.
В небольшом подвале помещалось около трехсот человек. Духота и теснота были страшные. Люди задыхались. Есть давали один раз в сутки и то какое-то пойло.
Неделя, проведенная в толочинской тюрьме, показалась годом. Затем нас перевели в минский концлагерь. В нем было еще хуже. Людей морили голодом. Начались болезни. Больных вывозили в лес и расстреливали. Так погибла моя бабушка, тетя Саша и несколько знакомых из нашего местечка.
Всех, кто был связан с партизанами или считался советским активистом, отделили от остальных, старательно осмотрели, отобрали вещи и хорошую одежду и погнали на станцию. На путях стоил длинный поезд. Нас посадили в товарные вагоны, двери закрыли и строго приказали сидеть и не шевелиться.
Когда поезд тронулся, женщины бросились к дверям. Через щели смотрели на родные поля и леса, которые оставались позади. Многие плакали: куда нас везут и что с нами будет, никто не знал.
Я прижалась к маме и сидела молча. Молчала и мама.
В первую же ночь заключенные одного вагона взломали потолок и убежали. После этого конвой усилился.
В наш вагон посадили двенадцать солдат, которые день и ночь следили за нами и ни разу не выпустили.
На шестые сутки поезд остановился. Куда мы приехали, никто не знал. Несколько часов нас не выпускали из вагонов. Потом приказали выходить, построили в колонну по пять человек и погнали. Ночь была темная, шел дождь. Мы корчились от холода, потому что одежду отобрали еще в Минске.
Сначала шли полем, потом лесом. Недалеко от дороги горел костер, на котором немецкие палачи сжигали детей.
На окраине леса стоял крематорий — большие, похожие на фабрику здания с высокими трубами. Из труб вырывались клубы серого дыма и пламя. Пахло удушающей гарью.
Мы догадались, что попали в лагерь, где сжигают людей.
Стало ясно, что нас ведут на смерть. В голове помутилось. Я даже не помню, что в то время говорила маме.
Здание крематория было огорожено колючей проволокой. Нам приказали остановиться. Часа три мы стояли без движения.
Потом подошел толстый пожилой немец-эсэсовец и приказал всем раздеваться. Люди не хотели этого делать. Немец повторил приказ. С криком и плачем женщины и дети начали сбрасывать одежду. Тех, кто не хотел раздеваться, немец бил палкой. Многие, всё еще не веря, что их гонят на верную смерть, связывали свою одежду в узелки и клали в стороне, на более сухое место.
Когда все разделись, нас построили в шеренгу по одному человеку и приказали идти. Мы вошли в сырое и темное, без окон, помещение. Стены и пол в нем были цементные. Я с ужасом подумала: «Вот-вот настает мой конец. Я больше ничего не увижу».
Пройдя одну комнату, вошли во вторую. Тут женщинам начали обстригать волосы и смазывать головы какой-то жидкостью. Потом по одному погнали в другое помещение. Перед входом стояло большое корыто с какой-то густой мазью. Каждому из нас приказали смазать ноги до колен.
Мама взяла меня и Милю за руки. Я прижалась к ней и вся дрожала. Когда помещение было битком набито людьми, двери закрылись. Поднялся страшный плач, крики.
Вдруг я почувствовала, как пол под нами зашевелился и начал наклоняться.
Внизу мы увидели огонь — это была печь крематория, в которой сжигали людей. Те, что стояли ближе к печи, с криком свалились вниз. Мы тоже не могли удержаться и начали скользить к печи.