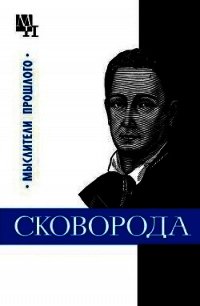Григорий Сковорода. Жизнь и учение - Эрн Владимир Францевич (книга жизни .TXT) 📗
«του χνρίου έπιπουεις; — ты стремишься к Господу! О, слаже нектара для меня эти твои слова или лучше благороднейшая и блтсо^ 81ш поистине божественная душа твоя! Наконец узнаю, что ты не из рода коршунов и хищников, а по крови из тех благородных орлов, которые любят высь и, оставив внизу летучих мышей с их мраком, устремляются к солнцу. О если б чаще слышать от тебя такие слова!.. Я б отказался от всякой амврозии! ...О, юноша достойный Христа! Ты почти исторг у меня слезы; ведь сильная радость заставляет плакать...» Все письма Сковороды к Ковалин-скому продиктованы желаниемршвг/гаь юношу, руководить его поведением, вызвать в нем правильное и возвышенное отношение к жизни. Сковорода чувствует ь юноше «кандидата блаженнейшей христианской философии» и старается заронить в его душу побольше семян: perfer et obdura (будь тверд и настойчив) — вот постоянный тон его писем.
Он обучает Ковалинского греческому и латинскому языкам, открывает перед ним возможность овладеть сокровищами античной и патриотической литературы, сокровищами, до которых он добрался сам и которые из всего книжного моря были сознательно избраны Сковородой. Он знакомит Ковалинского с Плутархом, Филоном, Цицероном, Горацием, Лукианом, Климентом Александрийским, Оригеном, Нилом, Дионисеем Ареопагитским, Максимом Исповедником. «А из новых, — говорит Ковалинский, — Сковорода избирал относительные к сим; глава же всем Библия». Но Ско-ворода, образовывая ум своего друга, главное внимание посвящал его душе, и, как своеобразно говорит Кова-линский, «сила, содержание и конец учебного их упражнения было сердце, т.е. основание блаженной жизни». «Я не знаю, как ты себя чувствуешь, особенно душевно. Если что-нибудь тяготит твое сердце, поделись с другом. Если не делом, то хоть сочувственным советом помогу тебе»30. И видя друга своего во внутренней опасности, Сковорода возгорался «ревностью по истине» и писал Ковалинскому горячие увещания. «Если здоров ты, радуюсь; если ты весел, радуюсь еще больше, ведь веселье истинное здоровье благоустроенной души. И душа, проникнутая пороком, не может быть истинно весела. Но знаю, как скользок путь юности, и знаю также, как невоздержно веселился вчера народ христианский. Очень боюсь я, что вчера ты участвовал в чем-нибудь и был в обществе нескромных. Если ни в чем тебя совесть не укоряет, радуюсь, что ты настолько счастлив. Чувствую, что слова эти тебе тяжелы. Знаю нравы юношей; но не все то яд, что сначала кажется горьким. Скажу только: если ты не истолкуешь этот мой страх как высшую любовь мою к тебе, очень ко мне ты будешь несправедлив. Христос да хранит лучший возраст твой от всех пороков и да влечет тебя всегда к лучшему»...31 Мягкая форма увещания переходила иногда в патетическую. Свою настойчивость он сравнивает с настойчивостью Катона. «Моя любовь к тебе, всегда помышляющая о твоей пользе, хоть было бы полезно душе и телу твоему. Но что мне тебе сказать? Говорят, что мудрый Катон, когда заметил, что Карфаген, на время раздавленный, снова замышляет войну против Рима, убеждал римлян идти войною на карфагенян. И хотя римляне не слушались его, не переставал их убеждать. И когда в Сенате спрашивали о чем-нибудь его мнения, он говорил: «Мое мнение, что нужно начать войну к карфагенянами, и я кроме тогодумаю, что Карфаген должен быть разрушен»... И это до тех пор, пока римляне не поднялись, пока Карфаген не был разрушен до основания и Рим таким образом не был освобожден от страха. О дорогой! избегай участия в злых делах! В злых делах участия Избегай! Беги как можно дальше! Помни! Избавь меня от страха! Я очень боюсь! Избавь же меня, если любишь, от страха, заботы, которые меня мучат... Помни, ты храм Божий! Храни в целомудрии тело.
Но храни раньше душу! Храни не для мира, а для Христа, Господа твоего и моего. Сохранишь, если будешь бодрствовать; будешь бодрствовать, если будешь трезвиться; трезвиться же будешь, если будешь молиться, плакать и не успокаиваться». «Тебя тянет роскошь? Возьми святую книгу, пой священные гимны, молись. Если это не помогает, позови достойного товарища и займись веселым и хорошим разговором или ко мне приди, или позови к себе. Чего боишься? Если же нет, победи свой плохой страх и стыд, которые мешают тебе поступать достойно». «Что ты блуждаешь духом? Куда стремишься, когда ты знаешь, что все благо твое внутри тебя? Чего бежишь в толпу, в собрание нечестивых? Неужели ты думаешь, что благо твое тут? Подави и обуздай τάζ ορμάς; твоей души и привыкни же, наконец, быть господином над ними. О, если б был у меня ή του πνεύματος μαχαίρα! Я бы погасил в тебе жадность, убил в тебе роскошь и пьяный дух, уничтожил честолюбие, изгнал побоями κενοδοξίαν и страх перед смертью и бедностью. О святейшая трезвенность, о добрая бедность, о спокойствие духа! Сколь немногие вас знают! Если все зло и несчастье для тебя не в грехе, ты ничего не знаешь, ты не владеешь еще «богословской верой» (FidemTheologicam)».
Но Сковорода заботится не только о душе Ковалин-ского. Он входит в мелочи его жизни и старается и сюда внести свою любовь и быть полезным Ковалин-скому. «Вчера, взяв нашего Николая, я отправился с ним, если не ошибаюсь в первый час ночи, в мой «гшлзаеит». Отбросив всякие околичности, я спросил его: чего ты сердишься на Михаила? Или почему ты не сообщил мне, если он сделал что-нибудь такое, на что ты с основанием мог рассердится? Но он сказал, что на тебя не сердится, хотя и имел основание сердиться, что он сначала рассердился, а потом перестал. Я спрашиваю: что же Михаил такого сделал? Он сначла сказал, что ты ответил на его письмо горделиво и грубо, отвергая его дружбу и говоря, что таких друзей себе не желаешь и пусть он ищет себе подобных»... И Сковорода старается примирить двух юнцов, выяснив недоразумение, межу ними происшедшее, и взаимное непонимание. В другом письме он пишет: «Ты не пришел вчера на игру и возбудил поэтому во мне невероятное желание тебя видеть. Если б оказалось неправдой, что я подозреваю! Ведь я боюсь — чего да не будет по милости Христивой — что ты схватил какую-нибудь болезнь в теперешнее нездоровое время. Поэтому βραχέως , сообщи, что с тобой. Наш маленький Яков уже смеется и играет. Слышишь χελιδόνα, весну возвещающего? Но он не пойдет на игру до тех пор, пока не будет у него хорошей обуви. Ведь его πυρετον между прочим произошел от того, что до сих пор он ходил в плохих ύποδήμασι,. Об этом я охотнейшим образом позабочусь во имя тех, кого люблю поистине как должно». Когда заболевает у Ковалинского братишка, Сковород а дает ему любопытный медицинский совет: «Ты хорошо и благочестиво поступил, что к больному братишке твоему, маленькому Максиму, приставил человека. Впрочем не очень-то слушай тех, кто предлагает всякие лекарства. Народ имеет массу медицинских средств и однако ничего хуже не умеет делать, чем лечить больных. Кроме обычных народных средств,не употребляй никаких. Кровопускания или castapotia избегай, как змею. Если хочешь, пригласи меня сегодня же, чтоб поговорить об этом деле».
На Ковалинского письма Сковороды производили огромное впечатление. Тридцать лет спустя он пишет Сковороде: «Вид начертанных тобой писем возбуждает во мне огонь». Но отношения его к Сковороде наладились не сразу. Он не сразу мог отдаться радостям дружбы с таким замечательным человеком, как Сковорода, и пережил некоторые «прелюдии», период отталкивания и страха за себя. Некоторое время он боялся близости со Сковородой, потому что чувствовал в Сковороде силу, которая должна разрушить его прежние привычные мнения. Он «восчувствовал в себе возбужденную борьбу мыслей и не знал, чем разрешит оную. Прочие учителя его внушали ему отвращение к Сковороде, запрещали иметь знакомство с ним, слушать разговора его и даже видеться с ним. Он любил сердце Сковороды, но дичился разума его, почитал жизнь, но не вмещал в ум рассуждений его; уважал добродетели, но устранялся мнений его; видел чистоту нравов, но не узнавал истины разума его; желал бы быть другом, но не учеником его». «Трудно изгладить первые впечатления», — прибавляет при этом Ковалинский.