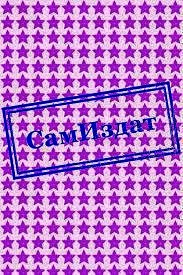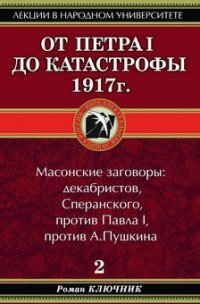Мои воспоминания (в 3-х томах) - Волконский Сергей (читать бесплатно книги без сокращений .txt) 📗
Станиславский вначале относился к моим приемам преподавания с недоверием. Он опасался почему-то, что я буду прививать приемы ложного пафоса, который у нас называется "французским". И почему только? Точно у нас нет лжи, а у французов нет простоты. Да наша театральная читка сплошь ложная... Но уже к концу первого года Станиславский смилостивился; на второй год он уже говорил на репетициях своим актерам: "Ступайте к Волконскому, потому что я не могу тратить семьдесят пять репетиций из ста на то, чтобы учить вас читать".
Поворот Станиславского в сторону техники очень знаменателен. Для меня же это было провозглашением победы моих принципов. Люди, восставшие против моих путей "во имя" путей Константина Сергеевича, остались на платформе Станиславского -- без Станиславского. Конечно, Константин Сергеевич не изменил своим принципам, но он увидел, что без разработки техники нельзя. Поворот его был настолько силен, что появилась статья Мейерхольда "Одиночество Станиславского", в которой маститый "Теократ" утверждал, что после того, что Станиславский говорит теперь на своих лекциях, ему остается лишь уйти из Художественного театра...
Я, во всяком случае, глубоко благодарен Константину Сергеевичу за высокодружескую поддержку, какую нашел в нем, а главное -- за ту медленную эволюцию, с какою эта поддержка понемногу осуществлялась...
О значительности этого поворота могу судить, когда вспоминаю предостережения покойного моего приятеля Алексея Александровича Стаховича, который был близкий друг Станиславского и мне передавал его суждения. Он всегда мне говорил: "Не обольщайся: в этом году на тебя мода, в будущем году к тебе охладеют, а на третий год тебя забудут". Как я жалею, что не довелось ему видеть картину Станиславского, сидящего за столиком и записывающего мой урок. Сколько молодости было в этом увенчанном сединой лице и как старчески угасша была рядом с ним студийная театральная молодежь, как пугливо-безразлична к новому слову...
Не для того, чтобы хвастать, но ради ясности положения и обоснования моих утверждений упомяну о том, что Константин Сергеевич пожелал пройти со мной монолог "Скупого рыцаря", то есть чтобы я ему высказал мои взгляды и приемы чтения по поводу этого монолога. Он пожелал также, чтобы я взял на себя выправление "Синей птицы" в Художественном театре. Но после первых же попыток я должен был отказаться. Я взял на пробу акт "Лазурного царства" и ничего не мог добиться. Эти актрисы понятия не имеют о движении голоса; инструмент голосовой совершенно бессознателен и увязает в однажды принятых привычках и ухватках. Они не знали, что значит повышение и понижение голоса, а когда узнали, то не могли исполнить: голос все впадал в старую складку. В течение восьми уроков повторяли мы одну несчастную фразу; выходят на сцену -- говорят по-старому. Эти люди, которым Станиславский с утра до ночи повторяет о "мышечном ослаблении", выходят на сцену такими связанными, напряженными, с такой фальшью в напряженном голосе и в способе давать его, что получается не "Лазурное царство", а какая-то санатория*.
______________________
* Вовсе не выставляю это как какой-нибудь специальный недостаток Художественного театра -- во всех театрах то же самое, и ни одна школа этого не знает, никто этого не слышит; учителя на это никогда не обращали внимания, они даже не знают о существовании науки о законах речи, а ученики, когда я им об этом говорил, в большинстве считали, что это напрасная трата времени: было бы чувство (или, как у нас говорят, -- чуйство), больше ничего не нужно. И ни один не призадумается над тем, что ведь чувство мое, чтобы дойти до другого человека, должно через что-нибудь пройти. У пианиста через пальцы (он их и упражняет), у актера через голос (нужно его воспитывать).
Станиславский пожелал, чтобы я выправил. Но, во-первых, выправлять всегда неблагодарная задача. Во-вторых, он делает непростительную ошибку, когда думает, что можно пускать на сцену людей, которые не только не выработали всех возможностей своего голоса и умения ими владеть соответственно требованиям сознательного искусства, но даже не отдают себе отчета в том, что такое средства голоса, каково их разнообразие и каков их смысл. Вот почему я, после нескольких попыток, устранился. Нельзя учить людей, которые думают, что они умеют, нельзя прививать хорошие привычки людям, которые укореняются в дурных, -- это напрасная трата сил... Всего этого мой покойный друг Стахович не видел. В первый год моего московского житья, 13 марта 1919 года, он повесился. Я подробно говорю и о нем и о его трагической кончине в моих "Лаврах".
Мои две "гисовские шестерки" вспоминаю с удовольствием; это была настоящая работа. Узнав, что я собираюсь осенью ехать в Петербург, мои слушатели выразили желание заниматься со мной в летние месяцы. За эти экстренные занятия они захотели меня вознаградить сахаром... Не все их имена помню, но многих из них провожаю благодарной памятью в ту пучину прошлого, на поверхности которой вряд ли когда встретимся.
Один, по имени Покровский, как-то исчез, а уже перед самым моим отъездом вдруг зашел ко мне на квартиру:
-- Я случайно получил баночку икры. Прошу принять от меня на память.
Таких примеров внимания много мог бы перечислить. Мы, там жившие, мы знали, что это такое -- получить банку или коробку чего-нибудь вкусного; мы знали, какая это радость, какой праздник. И тем не менее приносили, делились. Приносили мне и хлеба, и крупы, и леденцов, и яблок, и банку персиковых консервов... И нельзя было не принять.
Бедный Покровский! Он был нервен, после какой-то болезни или раны осталось подергивание; но он настойчиво работал в надежде стать преподавателем декламации.
-- Что же вас давно не видно было? Что делаете?
-- Ах, Сергей Михайлович, стыдно и сказать, что делаю. На углу Кузнецкого и Софийки с лотком стою и продаю карандаши и резинки. Вот что делаю, чтобы просуществовать.
А были стремления, были порывы... Да, мастера большевики в деле угашания духа. А Сережникову, директору заведения, в наркомпросе говорят: "Нам ваше заведение нужно как воздух". Все на словах, все на бумаге; дайте нам бумаги -- мы будем деловиты; дайте нам громких слов -- мы будем культурны... О, как начинали надоедать громкие слова! Народ уже от голоду умирал, а они все еще с балкона говорили: "Попы вам обещают рай после смерти, а мы вам его даем на земле". Не все уже верили этой коммунистической шарманке. В течение года или полутора в Москве не ходили трамваи; вот на одном митинге оратор расписывает; мы сделаем то-то и то-то, и электрификация, и солнца нам уже не надо -- "Мы зальем города искусственными солнцами!.." Скромный голос из публики: "А трамваи будут ходить?.."
В несуразном ГИСе я познакомился с одним из самых выдающихся людей нашего времени. Имя профессора философии Ильина было достаточно известно. Но разве в современной Москве можно найти минуту, чтобы пойти куда-нибудь, кроме своих лекций, большевистских канцелярий и своей берлоги?..
К большой радости моей узнал, что в ГИСе будет читать Ильин. Но он свободен только по четвергам от шести до восьми, а это был мой час по курсу мимики, и он просит, могу ли я ему уступить один четверг из двух. Таким образом, я, во-первых, имел честь чередоваться с Ильиным, а во-вторых, получал возможность послушать его в освобождающийся час. Четверговые лекции происходили перед всем составом студентов; они очень посещались, а лекции удивительного Ильина были, конечно, событием. Он говорил сильно, твердо; его курс был только введением в эстетику, но в каждом слове, в каждой интонации звучало исповедание высокого духа, не поддающегося никаким давлениям и бесстрашно держащего знамя свободного мышления и свободного его выражения. Он не всем нравился так же, как своим слушателям, и перед самым моим отъездом я слышал, что он был выставлен из университета.