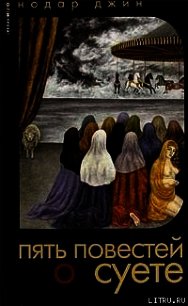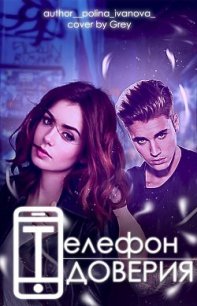Степень доверия (Повесть о Вере Фигнер) - Войнович Владимир Николаевич (читать лучшие читаемые книги .TXT) 📗
— Не только не буду против, но буду очень рад за тебя, — горячо поддержал я.
Хотя еще недавно я сам внушал Вере, что она должна непременно учиться, хотя сам побуждал ее отправиться в Казань, та легкость, с которой она меня оставила, несколько меня удивила и покоробила. «Если она так легко уехала, — думал я, — значит, она не очень-то меня любит, значит я ей нужен не во всякое время». Однако я старался заглушить в себе этот легкий ропот недовольства, ловя себя на том, что и сам я несколько приустал от ежедневной любви и ежедневного счастья.
С Вериным отъездом я переехал в Тетюши и жил на своей казенной квартире с казенным столом, казенной кроватью и казенным цветком на подоконнике. У меня вдруг неожиданно оказалось много свободного времени, которое я не знал на что употребить. Как-то вечером побывал у мирового судьи, у которого собиралось почти все здешнее общество, но оно мне показалось еще более пустым и скучным, чем то, к которому я привык в Казани.
После этого вечера я избегал ходить по гостям, предпочитая проводить вечера в одиночестве. Пробовал заняться немецким языком, поставив себе нормой изучать в день по десять новых слов, но уже на третий день мне это наскучило, и я либо читал книги, либо просто лежал на спине, смотрел в потолок и думал о Вере. Однажды надумал я вести дневник, купил тетрадку в красном переплете, написал на обложке «Дневник». Затем, поставив на первой странице число, описал свой день подробно: когда встал, что ел, кого встретил в течение дня, о чем говорили, но, перечитавши все это, увидел, что ничего интересного в этой записи ни для потомства, ни для себя самого в будущем нет, и бросил. Потом я решил, что вместо дневника буду писать письма Вере. В день по письму. Так гораздо больше стимула, потому что дневник пишешь неизвестно кому и для чего, в письме же получается видимость двухстороннего разговора, кроме того, ей, наверное, будет приятно. Сначала я писал каждый день, потом через день, потом от случая к случаю. Сочиняя эти письма, я думал о том, что любовь дает человеку радость не только близости с любимым человеком, но и радость разлуки. Я думал о том, что вовсе не обязательно, чтобы любимый человек был всегда рядом, есть особое наслаждение думать о том, что он где-то вдалеке, занят своими делами и все же иногда думает о тебе, вспоминает тебя. Иногда мне казалось, что если я буду долго и сильно думать о Вере, то мысль моя о ней обязательно дойдет до нее и она тоже станет думать обо мне, и ее мысль вернется сюда, и мы будем как бы вместе.

Недели через две после отъезда Веры получил я от нее письмо, в котором она писала о своей жизни. Надежды на то, что им с Лидинькой удастся поступить в университет, не оправдались. Профессор Марковников, к которому Костя по моей просьбе дал им рекомендательное письмо, принял их любезно и разрешил заниматься в своей лаборатории после занятий со студентами. Но этим его участие и ограничилось. Вера и Лидинька приходили по вечерам в лабораторию, смешивали в колбах какие-то реактивы, кипятили их, но, кажется, без всякого смысла. «Есть здесь, — писала Вера, — некий профессор Лесгафт, молодой ученый, говорят, восходящее светило в медицинской науке, он будто бы стоит за женское обучение; мы с Лидинькой решили пробиться к нему, чтобы получить разрешение присутствовать на лекциях и посещать анатомический театр. В анатомический театр однажды даже заглянули. Там стоял такой запах, что с трудом выдержали. Во всем университете, кажется, только две женщины, все смотрят на нас как на какую-то диковину, но мы не обращаем внимания — пусть думают, что хотят». Письмо было написано в обычной ее сдержанной манере, без всяких уверений в любви, без междометий и восклицательных знаков, которыми я в своих письмах, может быть, даже злоупотреблял. Меня даже слегка обидела эта холодность, но потом я подумал, что это не холодность, а простая сдержанность, свойственная ее характеру.
Во втором письме Вера писала, что познакомилась с Лесгафтом, который оказался очень приятным и приветливым человеком. Он сразу же и без всяких условий разрешил им посещать его лекции вольными слушателями и наравне со студентами работать в анатомическом театре. Письмо было опять деловое, без всякой лирики, Я ответил, что очень рад, что им удалось так хорошо устроиться в университете, что в конце концов важна не бумага, которую дают после обучения, а знания, что впоследствии, вероятно, университетское начальство, увидев, что у них не женский каприз, а серьезное стремление к знаниям, разрешит им перейти на положение настоящих студентов, что первые шаги на любом поприще всегда бывают трудными и находят сопротивление в среде людей, которые боятся всего нового. Изложив эти прописные истины, я написал, что очень по ней скучаю и мне кажется, что она за своими занятиями совсем забыла своего «провинциального родственника» и что в следующих ее письмах я хотел бы получить опровержение своим догадкам. На это письмо Вера ответила мне, что любит меня по-прежнему, но скучать некогда, очень много времени отнимают занятия. И что вообще считает излишние объяснения в любви вовсе ненужными, ибо настоящая любовь в словах не нуждается; что же касается занятий, то все идет пока хорошо, но против Лесгафта затевается какая-то интрига. Старые профессора считают, что он слишком либерален со студентами и держит себя с ними без всякого превосходства, на равной ноге, а это, по их мнению, недопустимо с точки зрения педагогической.
В ответном письме я написал, что наша жизнь на том и построена, что всякая бездарность как огня боится таланта и, как только заметит проявления его в любой области, сразу же, не дожидаясь губительных для себя последствий, начинает принимать меры; тут нельзя объяснить все одной завистью, а скорее могучим инстинктом самосохранения бездарности. Что же касается любви, то она, конечно, проявляется не в словах, но, когда люди находятся далеко друг от друга, слова являются единственным способом подтверждения, что чувство не прошло и осталось прежним,
Глава тринадцатая
Мужичок попался тупой, но разумный по-своему. Он стоял перед моим столом, переступая с ноги на ногу, мял свой облезлый треух и смотрел на меня с досадой, как на дитя несмышленое, не понимающее самых простых вещей.
— Ну, хорошо, — сказал я, — Ты срубил в чужом лесу три сосны.
— Две.
— Допустим, две. Но ты знал, что лес не твой и сосны не твои?
— Знал, барин.
— Зачем же ты их рубил?
— Нужны были. Крыша текст. Валки менять надо.
— Что нужны были, я понимаю. Мне, может, нужна вот эта твоя шапка. Что ж я теперь, ее должен украсть у тебя?
Он молчит, смотрит на меня исподлобья.
— Ну, ладно, — говорю я. — Предположим, что у тебя вообще нет никакой совести и ты можешь у товарища стянуть последнюю рубаху. Но меня интересует: ты думал, когда сосны рубил, что тебя могут поймать?
— Думал, барин, — кивает он.
— И что же ты думал?
— Думал, барин, авось не пымают.
— Так вот же поймали. А теперь, что ж? В острог тебя придется посадить.
— Да уж не без этого, — соглашается он.
— И что же, тебе хочется садиться в острог?
— Нет, барин. Ужас как не хочется.
— Для чего же ты рубил эти сосны?
Он опять посмотрел на меня как на несмышленыша и вздохнул:
— Так нужны ж были.
Приотворилась дверь, просунулась голова в пуховом платке:
— Можно?
Я посмотрел и глазам своим не поверил:
— Вера!
Мужичонка стоял, переводя взгляд с меня на Веру и с нее на меня.
— Сядь на лавку, посиди, я сейчас, — сказал я ему и вышел за дверь.
Здесь мы обнялись и расцеловались.
— Господи, Вера! — сказал я. — Неужели это ты?
— Я.
За три месяца, которые мы не виделись, она стала взрослее и строже.
— Я уж думал, что ты вообще забыла, что существует где-то некий следователь Филиппов, состоящий с тобой в родственных отношениях.