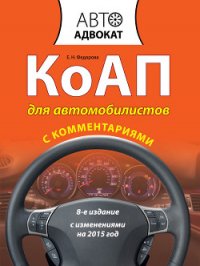На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной - Федорова Евгения (электронные книги без регистрации txt) 📗
Ко времени революции Мак окончил Петербургское художественное училище. Учился он днем, а ночью работал в Адмиралтействе писцом, чтобы приносить домой 25 рублей в месяц. Один отец на всю семью заработать уже был не в силах. После окончания училища Мак поступил в Академию художеств, в студию профессора Эберлинга. Только революция на несколько лет прервала обучение. Вновь он поступил в академию уже в 1924-м, приехав из Москвы, где работал над оформлением Первой всесоюзной сельскохозяйственной выставки, уже со мной…
Из остальных детей кое-кто уже учился – вышли химики и физики, кое-кто не пошел дальше машинистки, кто-то лишь окончил ФЗУ. За все годы, проведенные в этой семье, ни разу не пришлось мне с кем-нибудь поссориться, не помню ни одной мало-мальски серьезной неприятности, да и несерьезной тоже. Дружнее же всех были мы с Лелей, на год или полгода моложе меня, той самой, с которой мы заведовали «генеральной стиркой». В то время, когда меня арестовали, она была на втором или на третьем курсе Химического института…
И вот зима 1934 года. В то время мы уже два года жили в Москве, и мои отношения с Маком сильно осложнились. Мы все еще продолжали любить друг друга, но нам уже трудно было оставаться вместе, и мы оба искали предлога, чтобы побыть наедине с собой и попытаться хорошо во всем разобраться.
К тому времени у меня за плечами уже были Литературный институт и несколько изданных книжек. Я тогда работала над путеводителем по Беломорско-Балтийскому каналу, где проработала один сезон, и собиралась вновь поехать туда экскурсоводом. Так как экскурсии с будущего лета должны были начинаться прямо из Ленинграда, то я и поехала туда, чтобы собрать необходимый материал.
Конечно, как всегда, я остановилась у Селенковых, с которыми поддерживала самые сердечные отношения. В ту поездку я прожила в Ленинграде всего около двух недель. Но в эти недели в Смольном прозвучал судьбоносный выстрел, унесший впоследствии так много жизней… Был убит Киров. Весть об этом всех ошеломила. Киров пользовался глубоким уважением ленинградцев. Так же, как и отец Мака, рабочие и мастеровой люд называли его «наш Мироныч» и были совершенно подавленны случившимся.
Такие, как я, – люди, далекие от политики, – тоже были ошеломлены. «Террор» казался каким-то анахронизмом, отдававшим Французской революцией и несовместимым с современностью. Террор в наши дни? Это казалось дикой чушью и никак не сообразовывалось с тем временем. Разгула «расправы с террористами» еще никто не предвидел, и во что выльется это, как в последствии оказалось, хорошо спланированное убийство, никто не мог и предполагать.
Во что вылились для меня эти «террористические» разговоры в семье моего мужа, я узнала только потом, на заседании военного трибунала. Пока же следующим козырным вопросом следовательницы был такой:
– Скажите, Федорова, а с вашим двоюродным братом Юрием Соловьевым вы не вели террористических разговоров?
– Я?.. С Юркой?
Слишком неподдельное изумление, написанное на моей физиономии, заставило Марию Аркадьевну подробно изложить содержание «террористического» разговора, произошедшего между мной и моим двоюродным братом Юрой Соловьевым.
– Вы никогда не говорили о том, что Николаев мог быть «наемным убийцей»? Не обсуждали вопроса, за сколько он мог убить товарища Кирова? А вы, Федорова, и ваш брат, – за сколько бы вы взялись совершить террористический акт над товарищем Сталиным? – Тут она понизила голос чуть не до шепота: даже на следствии произнести такие слова – кощунство! И так как я ошалело молчала, продолжила: – Я вам напомню: вы сказали, что готовы убить товарища Сталина за 100 тысяч рублей!
– Я?.. Сталина?.. Убить? Да я даже цыпленка не могу зарезать! Ни за 100, ни за 300 тысяч!..
– Федорова, – истерически взвизгнула следовательница, – я стенографистку вызову! Вы думаете о том, что говорите?
Ах, конечно, я не думаю! Мысли у меня в голове кружатся и несутся в разные стороны. Действительно, она – про Сталина, а я – про цыпленка! Конечно, не к месту. Но сейчас не в этом дело. Боже мой, 100 тысяч! Да, я действительно что-то говорила про 100 тысяч! Но когда? И при чем тут Сталин?
– Боже мой, да ведь это была шутка! Я не помню всего разговора и в связи с чем упоминала про эти 100 тысяч. Как-то не так было сказано… И во всяком случае это была только шутка!
– Ах, вы опять не помните? Вы шутили такими вещами?! Отлично! Ступайте в камеру и припомните ваши разговоры с Юрием Соловьевым. – Следовательница нажала на кнопку, но тут же сделала знак рукой, чтобы закрыли дверь: еще рано, она поспешила.
– Впрочем, еще один вопрос: как и когда вы с Соловьевым намеревались убить старушку Анну Ильиничну, проживающую на Арбате, в Большом Афанасьевском переулке?
В глазах у меня потемнело. Анну Ильиничну? Последние обрывки мыслей выскочили из головы – там стало пусто и темно, как в комнате без окон и дверей. Я поняла, что объяснять что-либо бесполезно, да и сил больше не было. Я молчала…
– В камеру!
Я, как во сне, повернулась и вышла. Когда в книгах пишут: «Она шла, шатаясь, ничего не видя перед собой» или «Она почувствовала, что стоит на краю пропасти», это воспринимается как литературный штамп, пустое «украшательство». На самом же деле бывает именно так, только очень редко, при обстоятельствах исключительных, и это, должно быть, самые страшные минуты в жизни.
Со мной это было в первый раз. Я шла по коридорам Лубянки, ничего не видя и не сознавая, но отлично помню теперь, что именно там, в этих коридорах, в сознание вползла дикая и ужасная мысль: все кончено. Я попала не в руки людей, а в какую-то машину – неодушевленную, лишенную разума и чувств, хорошо отлаженную, запущенную раз и навсегда, похожую на гигантскую мясорубку…
В ее жерло падают люди. Бесчувственная машина не спеша, равномерно крутится. Человеческие тела втягиваются в нее все глубже и глубже, потом завиваются вокруг вала, кости начинают трещать, мясо спрессовывается и выжимается. Сквозь решетку мясорубки выползает кровавое месиво…
Именно так мне представилось все, что происходило на Лубянке. И мне стало понятно, что я – всего-навсего одна из тех, кто составляет человеческую массу, поглощаемую машиной. Путь только один – вперед, к валам и ножам. В обратную сторону машина не крутится. Для меня все кончено…
Впоследствии ко мне не раз возвращался образ механической бездушной мясорубки. Но в тот раз, когда он ВПЕРВЫЕ пришел мне в голову, это потрясло меня больше и глубже, чем когда бы то ни было, ибо в тот момент я поняла – еще далеко не умом и сознанием, а только чувствами – весь ужас происходящего со мной, со страной…
В камере я немного пришла в себя. Видение равнодушной и безучастной машины пропало. Мысли лихорадочно заработали. Вернулась жажда бороться, доказывать, убеждать. Но как?.. Как убедить следовательницу, что мы с Юркой, несмотря на всякую чушь, которую болтали, обычные, нормальные люди? Просто люди. Что мы никому не хотели зла, что мы никому не делали вреда. Что мы – обыкновенные честные люди?
Мысли возвратились к последнему допросу, и мне вдруг смутно вспомнился разговор, действительно имевший место. Но как же теперь объяснить, что это лишь болтовня, не имеющая никакого отношения ни к террору, ни вообще к политике?!
…Это было не вскоре после убийства Кирова, а когда уже шок и трагизм произошедшего остались позади. Разговор, который помнился весьма смутно, был примерно таков:
Я: Все-таки удивительно, что же за человек был Николаев? Маньяк? Личный враг? Говорят, тут замешана женщина… Или, наконец, может быть, действительно была какая-то террористическая организация, и Николаев – наемный убийца? Но как же он мог пойти на такое дело, зная заранее, что продает свою собственную жизнь? Ведь не мог же он надеяться, что сам останется в живых?
Юра: Ну а может, он вообще собирался покончить с собой? Почему бы и не продать свою жизнь в таком случае? Все равно ведь умирать!
Я: Ну ты всегда вздор мелешь! Как это – «продать» свою жизнь?