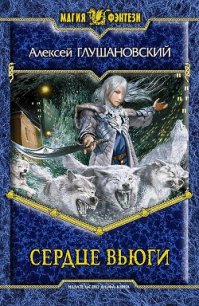Сколько стоит человек. Повесть о пережитом в 12 тетрадях и 6 томах. - Керсновская Евфросиния Антоновна
Случалось, что в чудовищную мясорубку тридцать седьмого года, перемалывавшую тела и души лучших граждан этой многострадальной страны, попадал и такой ядовитый скорпион. Думаю, что это была не случайность, а закономерность: ведь один такой субъект, как Ляндрес, мог оговорить, обливая самой черной клеветой, всех, кого ему велят (и даже куда больше!). Таким путем он пытался добиться смягчения своей участи, и в этом, нужно сказать, он преуспел.
Безукоризненным чутьем Ляндрес угадывал, кто может быть ему полезен, и умел артистически пресмыкаться; это же чутье помогало ему распознавать людей, раскусивших всю его гнусность. К ним у него пощады не было…
Мне уже приходилось сталкиваться с людьми беспощадно жестокими, злыми, грубыми. Но более отталкивающего сочетания низкопоклонства и жестокости — и все это на фоне партийного подхалимства — я не встречала.
Более несходных характеров, чем у Ляндреса и Никишина, нельзя и вообразить! Но на первый взгляд было и сходство: оба обожествляли компартию и ее «папу» — Иосифа Первого. Но и тут — с диаметрально противоположных позиций.
Доктор Никишин носил ВКП(б) в сердце своем и твердил молитву уж не помню какого святого: «Верю, Господи! Помоги неверию моему…» Ляндрес носил партию как кокарду на лбу и, размахивая ею как знаменем, вопил: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет — пророк его!» Только его Магомет назывался Сталиным.
Даже будучи оба малого роста, они «носили» этот рост каждый по-своему. Никишин — подвижный, подтянутый, явно играл под Суворова. Ляндрес — дряблый, надутый, почему-то напоминал Лягушку, желавшую сравняться с Волом.
Весной 1947 года случился характерный казус, свидетелем которого я не была, но Дмоховский так ярко его живописал!
В поселке Валек на реке с тем же названием, километрах в десяти от Норильска, скоропостижно скончался врач-заключенный, тоже улова 1937 года, но расконвоированный. Там он был единственным врачом, обслуживавшим геологов, вольных и зэков, и так хорошо умел угодить всем, что начальство разрешило похоронить его на тамошнем кладбище, а не тащить в морг, а оттуда голым везти в знаменитом катафалке и сваливать в общую яму. Но все заключенные должны были подвергнуться анатомированию.
Итак, доктор Никишин со своим инструментом отправился на Валек. С ним увязался Ляндрес. Необходимость своего присутствия он мотивировал тем, что надо проверить наличие медикаментов: ведь этим заключенным доверять нельзя!
Они остались и на похороны. Никишин произнес у открытой могилы такую прочувствованную речь, что до слез растрогал и бывших его пациентов, и сотрудников — одним словом, всех, и они снабдили его тремя большущими рыбинами свежего копчения (основное население Валька — рыбаки).
Регулярного сообщения между Вальком и Норильском в те годы не было, и их подбросила до девятого лаготделения попутная машина, ехавшая в совхоз, а оттуда до Соцгорода добираться надо было пешком.
Никишин был хороший ходок, Дмоховский тоже. Оба они были в сапогах, и бездорожье им было нипочем. Но с Ляндресом дело обстояло хуже. В галошах и пальто, непривычному к ходьбе человеку пришлось туго.
Однако Никишин нашел выход из положения: он предложил… перевозить его на спине через лужи и участки особенно непроходимой грязи!
И, хотя Никишин был значительно старше Ляндреса, но Ляндрес принял это предложение как нечто должное и взгромоздился на спину старика…
Увы! У «коня» было больше рвения, чем сил, и, переходя через особенно глубокое болото, Никишин увяз и… уронил Ляндреса в грязь!
Тот ужасно рассвирепел и долго не мог ему этого простить, особенно после того как Павел Евдокимович разделил поровну эти три рыбы на нас шестерых.
Как я уже упоминала, Никишин был настоящим коммунистом в лучшем смысле этого слова и не разрешал себе никаких прерогатив. Даже те полкило сгущенного молока, которые ему, как вольному, давали за вредность (за работу в морге), он разделил между нами поровну, хотя сам был большим сладкоежкой.
— Представьте себе! Мне полагалась половина, то есть полторы рыбины, а он разделил на всех… Такую рыбу дал каким-то заключенным! Они не имели на нее никакого права, а он им дал столько же, сколько и мне!
Следующий месяц был для меня очень мучительным, полным разочарования, обиды и даже отчаяния.
Бедный Павел Евдокимович! Ему было едва ли не хуже, чем мне.
Говорят: «Храбрый умирает один раз, трус — сто раз…»
Он метался: а вдруг на место Веры Ивановны назначат Хаю Яковлевну?! Ту самую, чьи «ошибки», последствием которых была смерть, Фрося внесла в протокол? И доктор Кузнецов ею недоволен, а Кузнецов ой как опасен, он может любой донос написать! Кузнецов — специалист по абортам, в те годы запрещенным, и те начальники, у которых есть жены, еще как к нему прислушиваются! А затем здесь, в морге, расположился, и, по-видимому, надолго, Ляндрес. Ему надо угодить… Ляндрес — известный стукач.
Булавочные уколы или укусы ядовитого насекомого?
…В морг я приходила рано утром, а уходила после ужина.
Все вольные и расконвоированные могли уходить и приходить в любое время. Я была бессменным дежурным, ведь покойников могли доставить когда угодно. Иногда надо было сделать срочное вскрытие, дать справку или ответить на телефонный вопрос.
И в будни, и в выходные я была на своем посту. Тут я могла изучать анатомию — медицинская библиотека была неплохая.
Наконец, я могла рисовать.
В морге я не так горько чувствовала свою неволю.
Я сижу за книгой. Фасции, сухожилия… Я с головой ушла в схему. Уже пятый час. Скоро Жуко принесет ужин.
Ляндрес пришел с работы. Прошел в кабинет Павла Евдокимовича.
Слышу:
— Эта заключенная еще здесь? Она свою работу закончила. Пускай идет в зону: заключенной здесь нечего находиться в нерабочее время!
У Павла Евдокимовича очень несчастный вид. Он мнется, не смотрит мне в глаза:
— Ты бы, Фросинька, шла отдыхать…
Я ухожу. Без ужина. Ляндрес не скрывает своего торжества.
Воскресенье… Разве я знаю, воскресенье это или пятница? Люди умирают, не заглядывая в календарь.
Иду, как всегда, в кабинет. Там накрыт стол, и мы все завтракаем вместе. Но в воскресенье Ляндрес «дома»:
— Скажите этой заключенной, что в воскресенье она должна оставаться в зоне. Пусть уходит!
— Фросинька! Сегодня ты не должна работать! Иди домой, отдыхай.
Я знаю: он сам страдает, но боится. А кто боится, тот жесток, хоть и сам мучается.
Метиленовая синька
Я не сильна в диалектическом материализме, но специалисты утверждают, что исторические события не сменяют друг друга плавно, а движутся как бы импульсами. Сначала что-то накапливается, затем фаза накопления переходит в фазу движения, и происходит нечто вроде толчка или взрыва.
Иногда мне было просто невмоготу: как говорится, атмосфера накалялась. С каждым днем Ляндрес все больше и больше становился хозяином в морге, а Никишин все более стушевывался. Видно, Ляндpес и не собирался никуда переезжать из удобной, бесплатной и близкой от места работы комнаты…
А что оставалось делать мне?! Работать! В работе было для меня все. Но кому была нужна моя работа?! Увы! Я уже начала понимать, что вскрытие нужно лишь для того, чтобы скрывать ошибки врачей: не вскрытие было нужно, а скрытие.
Патриархально-товарищеские отношения развеялись как дым. Я приходила тогда, когда Ляндерс уже уходил на службу, и уходила сразу после уборки. Оставалась обычно без завтрака и обеда (иногда дневальная их на меня получала). Ела лишь по вечерам, а для человека хронически голодного это очень нелегко.
И все же не помогли никакие предосторожности…
Прихожу я, и первое, что вижу, — это Ляндрес. А за ним наш больничный маляр Калинин с подручным. Ляндрес держит в руках две колбы с метиленовой синькой, той самой, которая считалась настолько дефицитной, что ее выдавали чуть ли не каплями, лишь для хромоцистоскопии [35].
35
метод функционального исследования почек с помощью контрастного вещества.