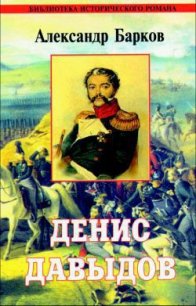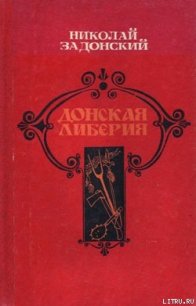Денис Давыдов (Историческая хроника) - Задонский Николай Алексеевич (книги без регистрации TXT) 📗
Анна Дмитриевна, догадавшись о силе молчаливого его страдания, отказать в просьбе не могла:
– Хорошо… Я скажу ей…
Евгения вошла, остановилась у дверей. Он взглянул в ее потупленное лицо, оно не скрывало следов душевной борьбы, тревоги и пролитых слез. Он отлично знал, что она не любит Мацнева и выходит замуж, принуждаемая проклятыми условностями жизни. Да, ей тоже нелегко!
Сдерживая себя, он произнес:
– Я не вправе ни в чем упрекать вас. Вы вольны в своем поступке. И я знал, что рано или поздно так должно было произойти, но это не облегчает удара… Все кончено для меня: нет настоящего, нет будущего, осталось только прошлое, и все оно заключается в письмах, которые я писал вам в течение двух с половиной лет счастья… Вот единственная причина, заставляющая меня желать возвращения писем…
Она подняла на него блеснувшие слезами глаза и сказала с тихой печалью:
– А я хотела просить вас, Денис Васильевич, чтобы вы позволили мне оставить эти письма у себя…
Он горько усмехнулся:
– Зачем? Чтоб они сделались когда-нибудь причиной ревности вашего супруга и полетели в огонь, смятые жестокой его рукой?
– Нет, нет, этого никогда не будет! – воскликнула она, и щеки ее вдруг запламенели. – Я бы возненавидела его и ушла от него в ту же минуту, если б он посмел, клянусь вам! Нет, я буду бережно хранить их до самой смерти… Зачем? А вы не догадываетесь разве, что шаг, на который я решаюсь, не обещает мне впереди больших радостей?.. Не лишайте же меня поддержки… вашими ласковыми и нежными словами, высказанными в письмах… может быть, только они и будут освещать и согревать мою жизнь…
Она не выдержала и расплакалась. Слезы стояли и в его глазах. Он сделал над собой усилие, шагнул к ней, взял и поднес к губам ее руку:
– Пусть будет, как вы хотите… Прощайте!
И быстро, не оглядываясь, вышел.
Тоска, тоска, страшная, гнетущая тоска овладела им, и не было, кажется, нигде от нее спасения. Ничто не радовало, ничто не утешало. И жизнь шла словно в тумане.
В августе в Симбирск приезжал император Николай. Дворянство губернии должно было по обычаям того времени явиться для встречи. Денис Васильевич видеть царя не захотел и соседу Бестужеву написал, что он «бог знает что налгал губернатору для передачи тому или тем, которые полюбопытствуют спросить обо мне».
А осенью, переехав в Москву, он признавался в письме Вяземскому:
«Итак, я оставил степи мои надолго. Дети так подросли, что уже нет возможности оставаться около риг и гумен. Однако не могу не обратить и мысли и взгляды мои туда, где провел я столько дней счастливых и где осталась вся моя поэзия! Здесь у меня перед окошками пожарное депо, а в обществе Хомутотва и вечные Пашковы; поневоле вздохнешь и о хижине моей, в степях затерянной, и о двухсотверстных визитах моих, моих собаках, моих ловитвах, mon Eugenie et mes amours XXVI! Но последнее из пера вырвалось, прошу, если победишь лень свою и вздумаешь писать ко мне, не упоминай о том ни слова».
Он искал забвения и не находил. Он всем существом своим чувствовал, что поэзия навсегда ушла из его жизни, а жизни без поэзии для него не было. Он до самой смерти не написал более ни одной стихотворной строки. Кроме вот этих прощальных, обнажавших душевные раны, сочиненных в одну из бессонных ночей в конце года:
И, может быть, только переписка с Пушкиным, работа для его журнала облегчали до некоторой степени. Денис Васильевич не сомневался в бессмертном значении творчества Пушкина, открыто называл его, единственного родного своей душе поэта, Великим Пушкиным, дорожил долголетней, ничем не омраченной, дружеской близостью с ним и тем, что Пушкин откровенными мыслями делился с ним, как с немногими.
Послав Пушкину статью «О партизанской войне», Денис Васильевич полагал, что она не встретит препятствий со стороны цензуры, однако ошибся, Пушкин ему написал следующее:
«Ты думал, что твоя статья о партизанской войне пройдет сквозь цензуру цела и невредима. Ты ошибся: она не избежала красных чернил. Право, кажется, военные цензоры марают для того, чтобы доказать, что они читают. Тяжело, нечего сказать. И с одною цензурою напляшешься; каково же зависеть от целых четырех? XXVII Не знаю, чем провинились русские писатели, которые не только смирны, но даже сами от себя согласны с духом правительства. Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче: даже и в последнее пятилетие царствования покойного императора, когда вся литература сделалась рукописною благодаря Красовскому и Бирукову.
Цензура дело земское; от нее отделили опричину – а опричники руководствуются не уставом, а своим крайним разумением».
Читая эти строки, Денис Васильевич, конечно, не предполагал, что более от милого и великого друга никогда уже ему писем не получать…
Страшно близок был тот день, когда Баратынский в запорошенной снегом шубе, с глазами, припухшими от слез, ворвавшись в кабинет Давыдова, голосом, сдавленным глухими рыданиями, крикнет:
– Пушкин убит на дуэли! Пушкина нет более!
Да, неотвратима была кровавая развязка драмы, которая уже разыгрывалась в столице империи. И это тоже предстояло пережить и перестрадать!
IX
ДЕНИС ДАВЫДОВ – ВЯЗЕМСКОМУ
3 февраля 1837 года. Москва, на Пречистенке в собственном доме
Милый Вяземский! Смерть Пушкина меня решительно поразила; я по сю пору не могу образумиться. Здесь бог знает какие толки. Ты, который должен все знать и который был при последних минутах его, скажи мне, ради бога, как это случилось, дабы я мог опровергнуть многое, разглашаемое здесь бабами обоего пола. Пожалуйста, не поленись и уведомь обо всем с начала до конца, и как можно скорее.
Какое ужасное происшествие! Какая потеря для всей России! Vraiment unecalamite publique! XXVIII Более писать, право, нет духа. Я много терял друзей подобною смертию на полях сражений, но тогда я сам разделял с ними ту же опасность, тогда я сам ждал такой же смерти, что много облегчает, а это бог знает какое несчастие! А Булгарины и Сенковскис живы и будут жить, потому что пощечины и палочные удары не убивают до смерти.
Денис
ВЯЗЕМСКИЙ – ДЕНИСУ ДАВЫДОВУ 110
9 февраля 1837 года. Из Санкт-Петербурга
Сейчас прочел я твое письмо от 3 февраля и спешу сказать тебе несколько слов в ответ. Понимаю твою скорбь и знал наперед, что ты живо почувствуешь нашу потерю. Чье сердце любило русскую славу, поэзию, знало Пушкина не поверхностно, как знал его равнодушный или недоброжелательный свет, и умело оценить все, что было в нем высокого и доброго, несмотря на слабости и недостатки, свойственные каждому человеку; кто умеет сострадать несчастию ближнего, – может ли тот не содрогнуться от участи, постигнувшей Пушкина, и не оплакивать его горячими, сердечными слезами!
Спроси у Булгакова копию с письма, в котором описываю ему подробности последних дней.
Ясно изложить причины, которые произвели это плачевное последствие, невозможно, потому что многое остается тайным для нас самих, очевидцев. Впрочем, и тем, что знаем, можно объяснить случившееся приблизительно и следующим образом: гнусные анонимные письма, о коих ты, верно, уже знаешь, лежали горячею отравою на сердце Пушкина. Ему нужно было выбросить этот яд с своею кровью или с кровью того, который был причиною или предлогом нанесенного Пушкину оскорбления. В первую минуту по получении этих писем он с яростью бросился на молодого Геккерна и вызвал его драться. Со стороны старика Геккерна пошли переговоры, и, по его просьбе, дуэль отсрочена на 15 дней. В эти 15 дней неожиданно, непонятно для всех, уладилась свадьба молодого Геккерна с сестрой Пушкина жены. Пушкин о том ничего не знал; узнав, не верил тому и полагал, что это все военная или дипломатическая хитрость. Но когда помолвка совершилась, он обратно взял картель, признавая, вероятно, в душе своей эту странную свадьбу, которая, во всяком случае, накидывала неприятную тень на молодого Геккерна, – за достаточную для себя сатисфакцию и, с другой стороны, признавая, по-видимому, несбыточность дуэли за жену свою с тем, который женится на сестре ее. Между тем тут же объявил он, что хотя от поединка, предложенного им, и отказывается, но семейных и даже общих сношений знакомства с семейством Геккерна иметь не будет; не принимал поздравлений, язвительно отзывался о свадьбе встречным и поперечным и решительно объявил, что ни он, ни жена его не будут в доме Геккерна, ни они у него в доме, что и было в точности соблюдено.
110
Публикуемое письмо Вяземского имеет любопытную историю. Подлинная копия этого письма, снятая и проверенная Д.Давыдовым, хранилась после его смерти у сыновей в Верхней Мазе. А копия, сделанная с этого письма А.Я.Булгаковым, без указания, кому письмо адресовано, и в несколько искаженном виде, была найдена в архиве Булгакова после его смерти и опубликована в «Русском архиве» (1879 г., № 6) как «письмо Вяземского к Булгакову», хотя при этом П.И.Бартенев и сделал примечание, что, возможно, письмо писано не Булгакову. Тем не менее в литературе оно стало известно как «письмо Вяземского к Булгакову», в частности так оно печатается в книге «Пушкин в воспоминаниях современников» (Гос. изд-во худож. литературы 1950 г.).
Просматривая бумаги Д. Давыдова, хранящиеся в ЦГВИА, я обнаружил ту подлинную копию, о которой говорил выше, во многом отличающуюся в тексте от «булгаковской копии», а письма Давыдова к Вяземскому без труда позволили установить, что письмо писано именно Д.Давыдову.
Письмо Вяземского публикуется по обнаруженной в делах Д.В.Давыдова копии. Сокращены лишь три страницы монархических излияний и бездоказательных доводов, будто Пушкин никогда не принадлежал к политической оппозиции (ЦГВИА, фонд 194, опись 1, ед. хранения 68, стр. 132 – 135).