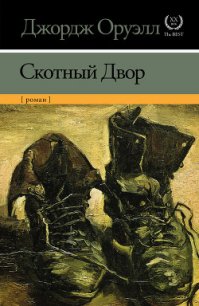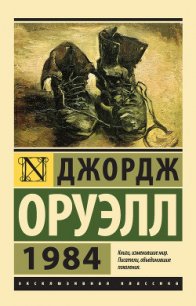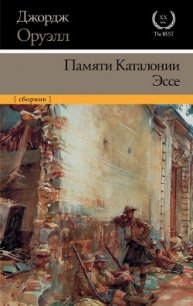Наперекор порядку вещей... (Четыре хроники честной автобиографии) - Оруэлл Джордж (читать полностью бесплатно хорошие книги .TXT) 📗
Первый раз я увидел французский ломбард. Через величественный каменный портал (естественно, со скрижалью «Liberté, Egalité, Fraternité» [33], осеняющей во Франции даже двери полицейских участков) входишь в похожее на школьный класс большое голое помещение. Ряды скамеек, на которых человек сорок-пятьдесят. Закладчики отдают у прилавка свои вещи и садятся. Определив цену, клерк выкликает: «Numéro [34]такой-то, на пятьдесят франков?». Иногда предлагают всего пятнадцать франков, даже десять, даже пять — сколько бы ни назначалось, слышит это вся комната. Когда я появился, клерк с оскорбленным выражением лица крикнул: «Numéro 83, сюда!» и, мотнув головой, присвистнул, словно подзывая пса. Numéro 83, бородатый старик в застегнутом до горла пальто и с бахромой на брюках, пошел к прилавку. Клерк молча швырнул ему узел, не стоивший, по-видимому, ничего. Узел упал на пол и развернулся, продемонстрировав четыре пары теплых кальсон. Грянул общий невольный смех. Бедняга Numéro 83, подобрав кальсоны и бормоча что-то, поплелся прочь.
Вещи, которые я отдавал вместе с чемоданом, стоили при покупке более двадцати фунтов и были в хорошем состоянии. Предполагая, что цена им фунтов десять и дадут четверть (ждешь в ломбарде обычно четверть цены), стало быть франков триста, я не тревожился. Ну, в худшем случае получу двести.
Наконец прозвучал мой номер: «Numéro 97!»
— Да, — поднялся я.
— Семьдесят франков?
Семьдесят франков за вещи стоимостью десять фунтов! Но спорить не приходилось; некто пытался возражать и заклад его тотчас был отвергнут. Взяв деньги и квитанцию, я вышел. Одежды у меня осталось лишь то, что было на мне (пиджак с почти протертыми локтями, пальто, которое еще годилось для ломбарда), и одна сменная рубашка. Позднее, к сожалению слишком поздно, я узнал, что не стоит посещать ломбард с утра. Французские конторщики, как вообще большинство французов, до обеда в дурном расположении духа.
Завидев меня, убиравшая бистро мадам Ф. бросила швабру и поспешила мне навстречу. В глазах заметная тревога насчет квартирной платы:
— Ну как? Сколько вам дали за все вещи? Что, маловато?
— Двести франков, — быстро проговорил я.
— Tiens! [35] — вскинула брови мадам Ф. — Совсем, совсем неплохо. Дорога уж, видно, эта английская одежда!
Ложь избавила от весьма неприятных объяснений и, как ни странно, подтвердилась. Спустя несколько дней мне заплатили ровно двести франков, давно обещанные за газетную статью. С болью, однако же немедленно и до сантима весь гонорар я отдал в счет дальнейших недель у мадам Ф. Так что, хотя жить пришлось впроголодь, все-таки была крыша над головой.
Найти работу стало совершенно необходимо, и тут мне вспомнился один русский приятель, официант по имени Борис, который, вероятно, мог бы помочь. Мы познакомились в палате муниципальной клиники, где мне лечили коленный артроз; Борис тогда приглашал заходить в случае любых затруднений.
Оригинальную личность Бориса, долгое время ближайшего моего сотоварища, надо вкратце обрисовать. Это был крупный, явной военной стати красавец лет тридцати пяти, правда из-за болезни, от длительного постельного режима чудовищно растолстевший. Как у всех русских беженцев, за плечами жизнь, полная приключений. Родители, расстрелянные в Революцию, были из богачей, сам Борис всю войну прослужил офицером Второго сибирского полка, лучшего, по его словам, отряда российской армии. В эмиграции работал сначала на фабрике по производству щеток, затем рыночным грузчиком, потом мойщиком посуды и дорос наконец до официанта. Заболел он, когда служил в «Отеле Скриб», имея в день по сотне франков чаевых. Мечтой Бориса было стать метрдотелем, накопить пятьдесят тысяч и завести аристократический ресторанчик на Правом берегу.
О войне Борис вспоминал как о счастливейших временах. Война и армия являлись его страстью. Прочтя бесчисленные сочинения по военной истории, он мог в тонкостях разобрать детали тактики и стратегии Наполеона, Кутузова, Клаузевица, Мольтке и Фоша. Все связанное с армией радовало его сердце. «Клозери де Лила» сделалось его любимым парижским кафе лишь потому, что рядом стоял памятник маршалу Нею. Когда нам с ним случалось вместе добираться до улицы Коммерс, то, если мы ехали на метро, он непременно выходил не на ближайшей станции «Коммерс», а на «Камброн», столь сладостно напоминавшей ему доблесть генерала Камброна, который в битве под Ватерлоо на предложение сдаться ответил кратким «Merde!».
Революция оставила Борису только его медали и пакет полковых фотографий — их он сохранил даже тогда, когда буквально все ушло в ломбард. Чуть ли не каждый день снимки раскладывались на кровати и комментировались:
— Voilà, mon ami! [36] Вот взгляни-ка, это я во главе моей роты. Молодцы ребята, богатыри, а? Не то что крысята-французики. В двадцать лет капитан — неплохо? Да, капитан Второго сибирского, а отец-то был полковником.
Ah, mais, mon ami [37], жизнь это взлеты и падения! Капитан русской армии и вдруг, бац! революция — все прахом, ни гроша. В шестнадцатом году неделю снимал люкс в «Отеле Эдуард VII», в двадцатом туда попросился ночным сторожем. Побывал сторожем, уборщиком, кладовщиком, плонжером [38] и смотрителем клозета. И сам давал лакеям чаевые, и принимал с поклоном.
Эх, однако знавал я что такое жить джентльменом, mon ami. Не ради хвастовства скажу, на днях пробовал вспомнить, сколько любовниц у меня было, и вышло больше двухсот. Да, за двести точно… Эх, ладно, ça reviendra [39]. Победа с тем, кто не сдается! Выше нос!..
Натура Бориса поражала странной пластичностью. Он постоянно тосковал о доблестной армейской службе, но в то же время, потрудившись официантом, вполне усвоил соответственные идеалы. Хотя никогда не умел накопить даже тысячи франков, свято верил в возможность завести собственный ресторан и разбогатеть. Все официанты, как я потом обнаружил, так думают и говорят, это их примиряет со своим лакейским положением. Борис охотно, ярко рассказывал о работе в отелях.
«Обслуживать гостей — играть в рулетку, — повторял он. — Можешь умереть нищим, можешь за год сколотить капитал. Жалование тебе не платят, только на чаевых — десять процентов к счету да еще пробки сдашь, комиссионные возьмешь с винных компаний. Места есть, где такие чаевые! Бармен в „Максиме“, например, за смену имеет пятьсот франков. И больше даже, если сезон… Я сам, бывали дни, по двести набирал — это в Биаррице, в самый разгар. Все там тогда, от менеджера до последнего плонжера, вертелись двадцать часов в сутки; месяц подряд двадцать часов носишься, часика три поспишь и снова. Так ведь уж стоило того — две сотни в день…
…Не знаешь никогда, откуда вдруг удача тебе блеснет. Вот как-то, я тогда работал в „Руайаль“, один американец перед ужином зовет, велит подать пару дюжин коктейлей с бренди. Я ему на подносе приношу все двадцать четыре стакана. „А ну, гарсон, — говорит мне клиент (пьяный в дым), — я сейчас пью дюжину и ты дюжину, и если сразу выпьешь, а потом дойдешь до двери, получишь от меня сто франков“. Я дошел — он дал сотню. И неделю каждый вечер я тот же фортель исполнял: дюжина коктейлей в глотку, сто франков в руку. Потом, к зиме уже, слух прошел, будто моего клиента под суд за океан отправили — растратчик. Что-то в них все-таки есть милое, в этих американцах, разве нет?
Борис мне нравился, и мы прекрасно проводили время, играя в шахматы, беседуя о героизме и чаевых. Борис советовал мне пойти в официанты. „Поживешь наконец по-человечески, — уговаривал он. — Когда имеешь место, сотню в день и симпатичную подружку, так очень славно. К писательству, говоришь, тянет? Сочинять — это трепотня. Писателю один путь в люди выйти — жениться на дочке издателя. А вот официант из тебя получился бы отменный, только усы сбрить. У тебя главное, что нужно официанту, — ростом высок и по-английски говоришь. Лишь бы вот чертова моя нога стала сгибаться! Ты, mon ami, если совсем прижмет, сразу ко мне — устрою запросто“.