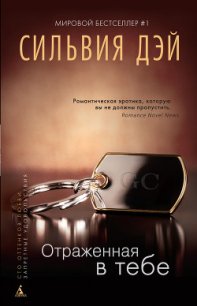Семь столпов мудрости - Лоуренс Томас Эдвард (лучшие книги онлайн .TXT) 📗
Я быстро перерос идеи. И поэтому не доверял высококлассным специалистам, которые нередко были всего лишь интеллектами, запертыми между высокими стенами, и действительно превосходно, во всех деталях знали каждый камень мостовой во дворе своей тюрьмы, тогда как я на их месте мог бы знать, из какого карьера вырублены эти камни и сколько заработал каменщик. Я обвинял их в неточности, потому что всегда находил материалы, которые могли служить некой цели, а желание было надежным проводником по некой единственной из множества дорог, ведущих от цели к свершению. Плоти здесь места не было.
Я многое понимал, многое недооценивал, многое пристально рассматривал и принимал как таковое, потому что убежденности в своих действиях у меня не было. Вымысел представлялся мне более ценным, чем конкретная деятельность. Меня посещали амбиции карьеризма, но не задерживались, потому что мое критическое «я» не могло бы не заставить меня отвергнуть их возможные плоды. Я всегда поднимался выше обстоятельств, в которые оказывался вовлечен, но ни с одним из них добровольно не связывал себя никакими обязательствами. Действительно, я смотрел на себя как на источник опасности для обычных людей, поскольку обладал способностью неуправляемо отклоняться от курса, распоряжаясь ими.
Я следовал, а не начинал, и, по правде говоря, даже следовать у меня не было никакого желания. Была лишь слабость, удерживавшая меня от умственного самоубийства, какая-то вялая задача постоянно глушить огонь в печи моего мозга. Я развивал идеи других людей и помогал им, но так никогда и не создал ничего сам, поскольку не мог одобрять созидание. Когда что-то создавали другие, я мог сделать все для того, чтобы результат превзошел все ожидания, оказался лучшим.
Работая, я всегда старался служить, потому что роль лидера слишком бросалась в глаза. Подчинение приказу обеспечивало экономию мучительной мысли, было своего рода холодильником для характера и желаний и безболезненно вело к забвению деятельности. Неотъемлемой частью моей неудачи всегда было отсутствие начальника, который мог бы мною понукать. Все мои начальники либо по неспособности, либо от нерешительности, либо потому, что я им нравился, предоставляли мне слишком полную свободу, как если бы не понимали, что добровольная склонность к рабскому подчинению являла собой высшую гордость болезненной натуры, а альтруистское страдание было ее самым желанным украшением. Вместо этого они предоставляли мне свободу действий, которой я злоупотреблял с вялой снисходительностью. В каждом саду, на который может польститься вор, должен быть сторож, собаки, высокий забор, колючая проволока. И никакой безрадостной безнаказанности!
Фейсал был храбрым, слабым, невежественным человеком, пытавшимся делать работу, которая была под силу только гению, пророку или крупному преступнику. Я служил ему из сострадания, и этот мотив унижал нас обоих. Алленби больше всего отвечал моей тоске по хозяину, но мне приходилось его избегать, не осмеливаясь признать поражение из опасения, как бы он не произнес то дружеское слово, которое не могло бы не поколебать мою верность. И все же этот человек с его ничем не запятнанным величием и интуицией был для нас настоящим идолом.
Существовали некоторые качества, например мужество, которые не могли существовать самостоятельно и, чтобы проявиться, должны были смешиваться с какой-то хорошей или дурной средой. Величие Алленби было другим с точки зрения самой категории этого понятия. Его независимость была гранью характера, а не интеллекта. Она делала излишними для него обычные человеческие качества: ум, фантазию, проницательность, трудолюбие. Судить о нем по нашим стандартам было так же нелепо, как судить о степени заостренности носа океанского лайнера по остроте бритвы. Его внутренняя сила делала эти стандарты неприменимыми к нему.
Похвалы, расточавшиеся другим, возбуждали во мне отчаянную ревность, потому что я оценивал их по их нарицательной стоимости, тогда как, если бы точно так же похвалили меня хоть десять раз кряду, я посчитал бы, что эти похвалы ничего не стоят. Я был постоянным, неминуемым военным судом для самого себя, потому что для меня внутренние пружины действия не были подкреплены знанием чужого опыта. Оказание доверия должно быть в первую очередь продумано, предвидено, подготовлено, проработано. Мое «я» подвергалось обесценению некритической похвалой другого.
Когда какая-то цель оказывалась в пределах доступного для меня, я больше ее не желал. Я черпал наслаждение в самом желании. Когда желание завоевывало мою голову, я прилагал все усилия, пока наконец не получал возможности протянуть руку и взять это желаемое. А затем отворачивался, удовлетворенный тем, что это оказалось в моих силах. Я искал только самоутверждения.
Многое из того, что я делал, шло от этого эгоистического любопытства. Оказываясь в новой компании, я пытался привлечь внимание к проблемам распутного поведения, наблюдая влияние того или иного подхода на моих слушателей и рассматривая коллег-мужчин как многочисленные мишени для моей интеллектуальной изобретательности и остроумия, пока дело не доходило до откровенного подшучивания. Это делало меня неудобным для других людей, они начинали чувствовать себя неловко в моем присутствии. К тому же они проявляли интерес ко многому тому, что мое самосознание решительным образом отвергало. Они разговаривали о еде и о болезнях, об играх и о чувственных наслаждениях. Я испытывал стыд за себя, глядя на то, как они деградируют, погрязают в болоте физического. Действительно, истина состояла в том, что я не был похож на «себя», и я сам мог это видеть и слышать от других.
Глава 104
Мои мысли были прерваны сообщением о непонятной суматохе в палатках племени товейха. Увидев бежавших ко мне с громкими криками людей, я приготовился к тому, что придется улаживать драку между арабами и солдатами корпуса верблюжьей кавалерии, но, оказалось, речь шла о помощи: за два часа до этого племя шаммар совершило под Снайниратом набег на владения племени товейха. Напавшие угнали восемьдесят верблюдов. Чтобы не показаться совершенно безразличным к этому, я посадил на запасных верблюдов четверых или пятерых своих людей, друзей и родственников пострадавших и послал их вдогонку за грабителями. Бакстон со своими солдатами выступил после полудня, сам же я задержался до вечера, чтобы проследить за тем, как мои люди грузили шесть тысяч фунтов пироксилина на тридцать египетских вьючных верблюдов. Моим недовольным телохранителям предстояло вести этот караван со взрывчаткой.
Мы договорились с Бакстоном о том, что он заночует недалеко от Хади, и направились туда, однако не обнаружили ни костра, ни натоптанной дороги. Мы внимательно всматривались в темноту, не обращая внимания на дувший прямо в лицо со стороны Хермона неприятный северный ветер. Черные склоны, овеваемые суровым ветром пустыни, были безмолвны и казались нам, городским жителям, привыкшим к запаху дыма, или пота, или свежевспаханной земли, подозрительными, навевавшими дурные предчувствия, почти опасными. Мы повернули назад и комфортно расположились на ночь под нависшим над дорогой выступом в почти монастырском уединении.
Утром мы долго осматривали открывшуюся нашим взорам, простиравшуюся миль на пятьдесят пустынную местность, надеясь увидеть наших пропавших спутников, когда наконец со стороны Хади донесся крик Дахера, увидевшего их караван, приближавшийся по извилистой тропе с юго-востока. Накануне они еще до наступления темноты сбились с дороги и остановились до рассвета. Мои люди подсмеивались над их проводником шейхом Салехом, ухитрившимся заблудиться на пути между Тлайтукватом и Баиром, который был не сложнее дороги от Триумфальной арки до Оксфордской площади в Лондоне.
Однако утро было восхитительным, солнце светило нам в спину, а ветер освежал наши лица. Верблюжья кавалерия величественно уходила за покрытые инеем вершины в зеленые глубины Дирвы. Солдаты Бакстона выглядели совсем не так импозантно, как при вступлении в Акабу, потому что его гибкий ум позволил ему перенять опыт боевых действий нерегулярной армии и приспособить уставные требования к новым условиям.