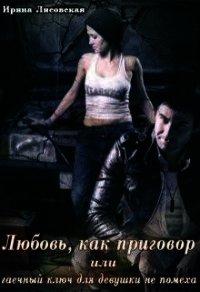Евгений Евстигнеев – народный артист - Цывина Ирина (бесплатные версии книг .txt) 📗
Завершал работу над спектаклем Олег Ефремов. Он нашел жанр, но Евстигнеев много работал с актерами, и, может быть, поэтому в спектакле было много актерских удач: М. Козаков, О. Табаков, В. Никулин, В. Паулус, Н. Дорошина, Л. Кадочникова, А. Адоскин, А. Покровская, О. Станицына и другие. Я играла мать Петра.
«Вспомни что-нибудь из детства, – говорил мне Евстигнеев, – что-нибудь поэтическое, но абсолютно конкретное, что тебе тогда хотелось, но вспомни сейчас, сию минуту. Мать тоже охватило сумасшествие от мысли, что возможно чудо». Мы искали подробно именно состояние, настроение, возбуждение. Я почти взлетала.
Эта сцена потом всегда была моей любимой.
Сам Женя все время пытался проиграть роль старичка. Ему казалось, что Паулус играет слишком бытово: «Надо ввести в роль чертовщинку, эдакое подмигивание». По-моему, один или два раза Женя играл эту роль в спектакле сам.
Помню первый дом Евстигнеева на улице Горького. Это была не его квартира, они снимали комнату в коммуналке с Галей Волчек (они тогда были мужем и женой), и вскоре там у них родился сын Денис. Это была очень талантливая пара, и, по-моему, Галя смотрела на него уже тогда как будущий режиссер. За глаза она всегда восхищалась его талантом, хотя в глаза и подтрунивала над ним. Она ставила ему в пример Жана Габена, но, по-моему, про себя думала, что Женя даже лучше.
Эта комната в коммуналке стала нашим клубом, нашим штабом: «Маяковка»-то рядом. Мы приходили к ним в перерывах между репетициями спектаклей. Плохо помню, что мы ели (получали копейки), зато часто спорили, иногда пели, когда приезжал из Грузии режиссер Гига Лордкипанидзе (он садился за пианино). Женя брал две вилки, чемодан и становился залихватским ударником.
Совершенно счастливы супруги были, когда получили однокомнатную квартиру. Женя, помню, сказал, что в отпуск не поедет, будет обживать квартиру, будет спать на полу, на газетах. Так и сделал.
Проснулся знаменитым Евстигнеев после спектакля «Голый король». И опять все исполнители сбегались смотреть сцену выхода короля и сцену примерки. Стоя перед зеркалом, он не видел костюма, но изо всех сил делал хорошую мину, пытался улыбнуться, по-детски красовался, чтобы не подумали, что он не видит ткани и не сочли его дураком.
«Голого короля» выпускали в Ленинграде. Люди стояли ночами за билетами на этот спектакль, да и вообще на спектакли «Современника», приносили с собой раскладушки в очередь. Евстигнеев стал прямо-таки легендой. Первый творческий вечер, как бы бенефис, был устроен Евстигнееву тоже в Ленинграде. Олег Ефремов нам все время повторял: «Это дело театра, поймите, все должны участвовать, делать праздник». На вечере был целый акт из спектакля «Голый король». Это снято на пленку (но пленку из музея театра кто – то взял посмотреть и не вернул…).
Я думала, что бы такое оригинальное подарить Жене. Мы с Валей Никулиным поймали во дворе гостиницы кота, посадили в сумку и решили преподнести на сцене живой подарок. Кот был смирный: пока я играла на сцене фрейлину, он сидел спокойно в сумке. В конце вечера я прочла какие-то сочиненные к этому случаю стихи, и мы преподнесли кота с бантом. Кот вдруг обезумел от яркого света и множества людей, начал рваться из рук, царапаться и мяукать. Евстигнеев растерялся, сделал страшные глаза и прошептал сквозь зубы: «Ты с ума сошла». Кто-то выручил, подхватил кота. За сценой Женя мне говорит: «Что ты наделала? Куда я его дену?» Радости совсем не выразил. «Мы его напрокат взяли, для эффекта. Обратно отнесем». Он жутко обрадовался, стал смеяться: «Гора с плеч». Все сели за стол, а мы с Никулиным понесли обратно кота под дождем, весенним и теплым, по Невскому проспекту. Ужасно смеялись, помню, над этим случаем и над собой.
В первые годы «Современника» у нас было принято играть и большие роли, и маленькие. Никто не имел права отказаться. В спектакле «Без креста» Евстигнеев играл роль священника и совсем маленькую роль деревенского изобретателя, эдакого Кулибина. Маленькие роли в этом спектакле были очень важны. Они придумывались актерами вместе с режиссером О. Ефремовым, чтобы создать атмосферу жизни деревни. Это всё должны были быть яркие персонажи, хотя у каждого – две-три фразы. Евстигнеевская же реплика стала крылатым выражением на долгие годы в нашем коллективе. Я играла его жену, которая жаловалась, что он не бывает дома, а если бывает, то только все книжки читает. Он, танцуя, мне говорит: «Ты плачешь, а надо бы рость». Эта реплика всегда вызывала в зале аплодисменты. И танцевал он очень смешно, очень ритмично, несколько «виляя задом», когда поворачивался спиной к публике. И снова аплодисменты. Мне с ним всегда было очень приятно играть, радостно.
В спектакле «Традиционный сбор» Женя играл Сергея Усова, главного героя, необыкновенно обаятельного умницу, весельчака, Человека с большой буквы. Я играла Лиду Белову и всегда ждала своей сцены с ним.
Первая встреча. Он не узнает Лиду: «Нет, не помню». Потом: «А-а-а-а». И все же – нет. «Да Лида я». И его радостное: «Ах, Лида!!!» Эта сцена, по-моему, начинала необыкновенную атмосферу спектакля, так волновавшего зрителя.
Это Женя Евстигнеев уговорил меня написать первую мою песню. Ставили спектакль «Пять вечеров». Искали песню для героини, Тамары (Л. Толмачева). Обсуждали тогда все вместе. Евстигнеев имел решающий голос как музыкант (он ведь был ударником до театра, имел абсолютный слух). Кто – то предлагал песню, Женя, помню, бьет себя по уху: «Нет, не то, запето. Да и не станут они петь за столом в интимной обстановке». Композитор Михаил Зив принес музыку. А слова? Евстигнеев отвел меня в сторону: «Ты можешь попробовать песню написать? Ты ведь кропаешь стишки в стенгазету?» Я разволновалась от такого доверия и сочинила. Вроде слова понравились. Тамара пела песню на мои слова: «Уехал милый в дальний край…» С тех пор я стала сочинять песни и всегда вспоминаю Женю добрым словом.
Мне еще очень хочется вспомнить две роли, которые он играл гениально. Старика Шварца в пьесе «Матросская тишина» Галича, в спектакле, который был запрещен прямо на генеральной репетиции. Он играл Шварца необыкновенно деликатным, щемяще деликатным, особенно в сцене, когда старик приезжал к сыну в Москву, в консерваторское общежитие, а сын вдруг его стыдился. «Кушайте чернослив, а я пойду, у меня много дел в Москве. Хороший чернослив, кушайте». А потом (в 3-й картине) он рассказывал о Бабьем Яре – это даже вспомнить невозможно без слез… Сколько ему было тогда лет? Тридцать пять, а то и меньше? Он был действительно великим артистом. У нас стесняются так называть артистов при жизни. Этот эпитет мы применяем либо к умершим, либо к иностранным актерам. И, конечно, исполнение Сатина в спектакле «На дне» было на такой высоте! Режиссер спектакля Волчек, так хорошо знавшая его, очень интересно выстроила эту роль. Сатин-Евстигнеев – человечище, философ, умница, мудрец, с огромным чувством горького юмора. Галине Волчек всегда удавались большие народные сцены. Конец первого акта воспринимался как симфония. Всё двигалось на сцене, приплясывало в пьяном угаре, музыка звучала все громче и громче. В центре, наверху, на нарах Евстигнеев с поднятыми руками, безумное, трагическое веселье, эдакий пир во время чумы, если можно так сказать. Но это нельзя, по-моему, выразить словами. Во всяком случае я не могу. Все слова кажутся бледными и недостаточными.
Хорошо, что существуют фильмы. В них Евгений Евстигнеев будет еще долго жить. Он был одним из основателей нашего театра «Современник», он первым перешел за Олегом Ефремовым во МХАТ, хотя сначала сам уговаривал его ни в коем случае этого не делать. Но он все равно останется нашим, «современниковским» навсегда.
МИХАИЛ КОЗАКОВ
На сцене «Современника» я играл с ним одиннадцать лет, но знал его гораздо дольше. Мы – однокурсники.
Я учился на третьем курсе Школы-студии МХАТ, когда к нам неожиданно поступил уже состоявшийся, поигравший в провинции актер. Он был на десять лет старше меня. Не знаю, как сейчас, но тогда студенты сидели на вступительных экзаменах. Нам было интересно, кто к нам приходит. И сразу стало ясно, что перед нами нечто удивительное, чудо какое-то. Никогда не забуду, как Женя читал монолог Антония из «Юлия Цезаря». «…А Брут великолепный человек!» Неподражаемая интонация – ирония и уверенность вместе. И еще чеховский рассказ, по-моему, «Разговор человека с собакой».