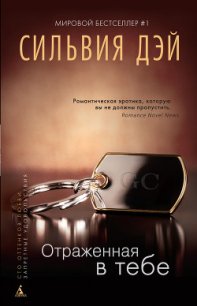Семь столпов мудрости - Лоуренс Томас Эдвард (лучшие книги онлайн .TXT) 📗
Глава 9
По пути в консульство Джидда нас очаровала, и после ланча, когда стало чуть прохладнее или по крайней мере солнце стояло уже не так высоко, мы решили осмотреть город в сопровождении Янга, помощника Уилсона, хорошо разбиравшегося во многих древностях, но гораздо хуже в том новом, что было в этом городе.
Это был действительно замечательный город. Улицы его представляли собою аллеи, на главном базаре прятавшиеся под деревянными крышами, во всех же других местах пробивавшиеся вверх, к небу, между высокими белостенными домами в четыре-пять этажей. Они были сложены из крупнозернистого кораллового известняка, связаны балками квадратного сечения и украшены широкими эркерами от земли до крыши, составленной из серых деревянных панелей. Стекол окна Джидды не знали, зато в избытке были деревянные решетки, и кое-где на боковинах оконных коробок была видна тонкая неглубокая резьба. Тяжелые двустворчатые двери из тикового дерева, покрытые глубокой резьбой, с коваными железными кольцами, заменявшими европейские звонки, висели на богатых кованых же петлях. Было много лепнины, или гипсовой резьбы, а во внутренние дворы более старых домов смотрели окна с красивыми каменными верхними брусьями и косяками.
Архитектурные формы напоминали бредовый стиль деревянно-каменных домов елизаветинской эпохи в причудливой чеширской манере, доведенной до крайней степени трюкаческих вывертов. Фасады домов были до того выщерблены, иссечены и облуплены, что выглядели как картонные макеты в какой-то романтической театральной декорации. Каждый этаж выступал над предыдущим, каждое окно косилось в ту или другую сторону, часто даже стены заметно отклонялись от вертикали. Город казался вымершим, так было тихо кругом и чисто под ногами. Его извилистые улицы были выстланы влажным песком, затвердевшим от времени и заглушавшим шаги не хуже любого ковра. Оконные решетки и стены, повторявшие изгибы улиц, глушили всякое подобие эха. Не видно было ни повозок, ни улиц, достаточно широких для них, ни подкованных животных, и нигде никакой суеты. Все было приглушенно, отчужденно, даже таинственно. Когда мы проходили мимо, двери беззвучно закрывались. Не было ни лающих собак, ни плачущих детей, и лишь на базаре, также казавшемся полусонным, мы увидели кучки странников всех мастей да редких прохожих, худущих, словно изможденных какой-то болезнью, с морщинистыми безбородыми лицами и прищуренными глазами. Эти люди старались быстро и осторожно проскользнуть мимо, не глядя на нас. Их бедные белые одежды, бритые головы с крошечными тюбетейками, красные хлопчатобумажные платки на плечах и босые ноги выглядели настолько одинаково, что казались почти униформой.

Гнетущая атмосфера дышала смертью. В ней не было никаких признаков жизни, как не было и испепеляющей жары, но она была насыщена влагой и памятью о многих столетиях, в ней царила опустошенность, казалось немыслимая ни в каком другом месте: никаких специфических запахов, присущих, например, Смирне, Неаполю или Марселю, лишь ощущение многовекового груза древности, словно замершего здесь дыхания множества людей, да слабая тень стойкого запаха пота на фоне других испарений. Можно было подумать, что Джидду годами не продувал крепкий ветер, что ее улицы задерживают этот воздух с того дня, как был построен город, и не отпустят от себя, пока стоят эти дома. На городских базарах нечего было купить.
Вечером зазвонил телефон. Шериф пригласил к аппарату Сторрса и спросил, не желает ли тот послушать его оркестр. «Что за оркестр?» – удивился Сторрс, не преминув поздравить его святейшество с таким успехом городского прогресса. Шериф объяснил, что штаб хиджазского командования под турками завел медный духовой оркестр, который играл каждый вечер для генерал-губернатора, а когда Абдулла посадил того в Таифскую тюрьму, там же вместе с ним оказался и оркестр. Когда узники были отправлены в Египет и интернированы, для оркестра сделали исключение. Его перевели в Мекку для услаждения слуха победителей. Шериф Хусейн положил трубку на стол в своем зале приемов, и все мы, торжественно приглашаемые по одному к телефону, слушали этот оркестр, игравший во дворце Мекки, в сорока пяти милях от нас. Сторрс выразил всеобщее удовлетворение, и шериф, расщедрившись, объявил, что оркестр отправляется форсированным маршем в Джидду, чтобы играть во дворе отведенного нам дома. «И тогда вы сможете доставить мне удовольствие, – добавил он, – позвонив мне и позволив разделить ваше удовлетворение».
На следующий день Сторрс посетил Абдуллу в его шатре рядом с гробницей Евы. Они вместе проинспектировали госпиталь, казармы, городские офисы и воспользовались гостеприимством мэра и губернатора. В перерывах между визитами они обсуждали финансовые вопросы, проблему титула шерифа, его отношения с другими аравийскими князьями, а также общий ход военных действий – все, что обычно входит в повестку дня на переговорах послов любых правительств. Это было скучно, и, когда после одной из подобных утренних бесед я понял, что Абдулла не тот вождь, который нужен восстанию, я, извинившись, отстранился от переговоров. Мы попросили Абдуллу обрисовать нам генезис арабского движения, и ответ позволил нам вполне оценить его характер. Он начал с пространного описания Талаата, первого турка, говорившего с ним о волнениях в Хиджазе. Тот желал их решительного подавления и введения, как повсюду в Империи, обязательной воинской службы.
Желая опередить его, Абдулла разработал план мирного мятежа в Хиджазе и после безрезультатного выступления Китченера предварительно назначил его на 1915 год. Он намеревался во время праздника обратиться с призывом к племенам и взять в заложники паломников. В их числе могли оказаться многие из видных людей Турции, не говоря уже о ведущих политиках Египта, Индии, Явы, Эритреи и Алжира. Он надеялся, имея в своих руках тысячи этих заложников, обратить на себя внимание заинтересованных великих держав. Абдулла думал, что они смогут оказать давление на Порту, чтобы обеспечить освобождение соотечественников. Порта, не располагавшая силами, чтобы разделаться с Хиджазом военным путем, либо пошла бы на уступки шерифу, либо призналась в своем бессилии иностранным государствам. В последнем случае Абдулла пошел бы на прямое сближение с ними, готовый удовлетворить их требования в обмен на гарантию иммунитета от Турции. Мне совсем не понравился этот план, и я был рад, когда Абдулла с легкой ухмылкой сказал, что озабоченный Фейсал просил отца не следовать ему. Это характеризовало Фейсала с лучшей стороны, к нему теперь постепенно поворачивались мои надежды как к достойному роли великого вождя.
Вечером Абдуллу ждал обед у полковника Уилсона. Мы встречали его во дворе, на ступеньках крыльца. За ним следовала блестящая свита из слуг и рабов, дальше тащилась группа бледных, изможденных бородачей со скорбными лицами, одетых в лохмотья военной формы и влачивших потускневшие медные духовые инструменты. Абдулла махнул рукой в их сторону и с гордостью объявил: «Мой оркестр». Музыкантов усадили на лавки во дворе, Уилсон послал им сигарет, а мы тем временем поднялись в столовую, балконная дверь которой была жадно распахнута навстречу морскому бризу. Пока мы рассаживались, оркестр под дулами ружей и саблями слуг Абдуллы грянул вразнобой душераздирающую турецкую мелодию. Уши у нас заложило от этого шума, но Абдулла сиял.
Компания выглядела довольно курьезно: сам Абдулла, бывший вице-председатель турецкого парламента, а ныне министр иностранных дел мятежного арабского государства; Уилсон, губернатор приморской провинции Судана и посланник его величества при дворе шерифа Мекки; Сторрс, секретарь по восточным делам в Каире, после Горста, Китченера и Макмагона; Янг, Кокрейн и я сам в роли штабных прихлебателей; Сейед Али, египетский армейский генерал, командир отряда, присланного в помощь арабам на первом этапе; Азиз эль-Масри, ныне начальник штаба арабской регулярной армии, а в прошлом соперник Энвера, возглавлявший силы Турции и сенуситов в кампании против итальянцев, главный заговорщик среди арабских офицеров в турецкой армии, выступавших против Комитета единства и прогресса, приговоренных турками к смертной казни за согласие с условиями Лозаннского договора и спасенный «Таймсом» и лордом Китченером.