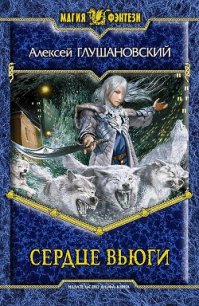Сколько стоит человек. Повесть о пережитом в 12 тетрадях и 6 томах. - Керсновская Евфросиния Антоновна
Но изредка бывало и так: операция оказалась неудачной, положение осложнилось… Тогда Кузнецов направлял все усилия на одно: сбыть с рук больного. Таких передавали Билзенсу или переводили в терапевтическое отделение, где они умирали от раневого сепсиса [17].
Первая смерть
В заключении на каждом шагу натыкаешься на чье-либо страдание; в больнице его особенно много. И мне казалось, что наконец я нашла то, что мне так необходимо. Я могла все силы, все свое время, всю волю направить на то, чтобы помогать страдающим, приносить облегчение. Беззаветно. Бескорыстно. И подчас — неразумно. У меня всегда была склонность к расшибанию собственного лба, как только я начинала молиться…
Умирал старый татарин из Крыма. Впрочем, может, он и не был старым, но все умирающие от сепсиса производят впечатление глубоких стариков. У него был субпекторальный абсцесс [18]. Лежал он всегда неподвижно и молчал. Я часто подходила к нему, чтобы смазать ему язык и губы смесью глицерина, спирта и воды и удалить липкий налет с зубов. Он был в сознании, но ни на что не реагировал. Поэтому я удивилась, когда однажды вечером, в то время как я мерила ему температуру, он зашевелился, сел и позвал:
— Сестра!
Я подошла, оправила подушку и села у него в ногах.
— Сестра! Я буду умирать. Сегодня. Я тебя прошу: напиши моя жена! Напиши: «Твой мужик всегда думал о тебе. И дети. Два малчик — Али и Шапур. И один дэвичка. Патимат. И умирал — все думал. И когда жил — только она, одна. И дети…» Напиши — и Аллах тебе спасибо скажет! Жена у меня очень хороший, а дети совсем маленький…
Я записала адрес и обещала написать.
Наутро его койка была пуста.
Я написала то, о чем он меня просил.
Ну и влетело мне за это письмо! Как я могла допустить такую мысль, что из заключения можно писать прощальные письма?! Если еще хоть один раз посмею писать о чьей-либо смерти, то меня отправят в штрафной лагерь копать гравий.
Н-да! Еще скажет ли Аллах спасибо — неизвестно, а я получила еще один урок бесчеловечности: люди должны исчезать без следа. Сообщать о них ничего нельзя. И расспрашивать об исчезнувших нельзя.
Вольняшки и зэкашки
У нас работала одна в/н, то есть вольнонаемная сестра. Вольняшки, разумеется, всегда имели возможность паразитировать на зэкашках — не выходить на работу, а будучи на работе, ничего не делать. Это естественно. Но эта — уже пожилая женщина — побила все рекорды.
Младшего сына нашей старшей сестры, Маргариты Эмилиевны, как сына репрессированных родителей, взяли в трудармию, когда ему еще не исполнилось и семнадцати лет (старший, Витя, был в штрафниках у Рокоссовского). Будучи слаб здоровьем, не выдержал тяжелого труда — он плотил круглый лес где-то на Волге, а тут еще травма — перелом бедра. К легочному туберкулезу присоединился туберкулез костей. Бедро ампутировали, но болезнь прогрессировала.
Парнишка был обречен… Но легко ли в семнадцать лет смириться с мыслью о смерти? И может ли мать остаться безучастной, получая из саратовского госпиталя письма, в которых сын пишет: «Мама, я так голоден! Если бы я мог купить немного масла и хлеба, то я, быть может, и поправился бы!»
Чем ему могла помочь несчастная заключенная?
И все же — могла. Руки у нее были, как говорится, золотые, а Вера Ивановна смотрела сквозь пальцы на то, что ее работники в свободное от работы время занимались разными поделками: вышивали, мастерили разные безделушки, абажуры. В те годы купить все это было негде, и вольняшки, работавшие в ЦБЛ, их охотно покупали.
И вот Маргарита взялась за дело: она кроила и шила кукол, медвежат из старых пальтишек, коврики из лоскутков, выдумывала какие-то абажуры, делала аппликации… Не знаю даже, когда она отдыхала!
Как только набиралось 500 рублей, она их отдавала вольной медсестре Батуриной, с тем чтобы она их переслала в Саратов. Та приносила квитанции от переводов, но не давала их в руки, а только показывала на расстоянии:
— Я не имею права выполнять поручения заключенных, я и так рискую.
Наконец от Жени пришло письмо: «Можешь, мама, мне ничего не посылать. Уже все равно поздно!» И еще дней через десять пришло письмо от медсестры, в котором она сообщала о смерти Жени…
Боже мой! Как плакала несчастная мать!
И что же оказалось? Эта вольнонаемная стерва, которая как сыр в масле каталась, присваивала эти деньги, выдавая старые квитанции от заказных писем за квитанции денежных переводов. Бедный мальчик их так ни разу и не получил!
И это не единственный ее поступок такого рода.
Начиная с 1945 года в больницу стали поступать девушки-каторжанки из Западной Украины. Тяжелая выпала им доля! Строили они аэродром «Надежда» зимней порой на открытом всем ветрам поле. К нам попадали они в результате травмы, а в терапию — с воспалением легких. У некоторых из них были красиво вышитые сорочки или блузочки — последняя память о доме…
Батурина «покупала» эти вышивки за пайку хлеба в 400 граммов. Она узнавала, когда девушку должны выписать, и накануне забирала «купленную» вещь:
— Завтра принесу тебе хлеб.
А назавтра входил старший санитар и говорил:
— Спускайся в приемный покой, на выписку! Конвой с аэродрома!
Так хладнокровно и обдуманно обворовывала она обездоленных девочек…
Семьдесят два часа без перерыва
Когда погода бывала плохой, а зимой в Норильске она хорошей не бывает, Батурина на работу не приходила: у нее «заболевали зубы». Одним словом, всю зиму она «мучилась зубами», и я обычно заменяла ее. Да не ее одну! Так уж повелось: я без лишних слов заменяла отсутствующих. К этому так привыкли, что перестали замечать.
Однажды Люба Симонова заболела гриппом, Соня Макарьян желтухой. У Батуриной «болели зубы». И вот на третьи сутки моего бессменного дежурства — ночью, в пургу — на Промплощадке произошел большой пожар, повлекший за собой много жертв. Санитарная машина то и дело привозила все новые и новые партии обожженных.
При ожогах первая помощь иногда решает судьбу пострадавшего. А тут, на беду, дежурил доктор Никишин — прозектор. Помощь от него была невелика. К счастью, у нас имелась замечательная эмульсия от ожогов — американская — в запаянных бидонах. Я вызвала на подмогу Эрхардта Петровича, и к утру всех пострадавших обработали. Я уже «дошла до ручки», а меня опять никто не сменил.
Эрхардт после ночной работы отправился спать, а я пошла на обход с Кузнецовым. Земля качалась подо мной, в глазах все плыло: трое суток напряженной работы давали о себе знать, а тут привезли больного, требовавшего срочной операции. Работу, сопряженную с движением, я бы еще смогла выполнять, но тут надо было давать эфирный наркоз.
Я делала нечеловеческие усилия, чтобы не упасть. И тут, будто издалека, услышала насмешливый голос Кузнецова:
— Больной! Пощупайте пульс у сестры!
Помню, мне стало очень обидно, но разговаривать я уже не могла: операционная завертелась, я шагнула в сторону двери и… растянулась во весь рост на полу.
Разумеется, все это было очень глупо, но у меня всегда возникало желание сделать больше, чем это физически оказывалось возможным.
Может быть, это гордость?
Положим, для гордости в обычном смысле этого слова основания не было в тот момент, когда я грохнулась навзничь, продемонстрировав сиреневого цвета невыразимые…
Говорят, что я просто-напросто работаю всегда на износ, и говорят это с оттенком презрения и сознания собственного превосходства. Пусть так! Но я не жалею, что никогда не лукавила и не пыталась найти более легкую дорожку. В те годы горького и незаслуженного унижения мне очень облегчало жизнь сознание того, что я поступаю согласно девизу Жанны д’Арк: «Делай то, что считаешь правильным, и будь что будет!» Мне не приходилось ни колебаться, принимая решение, ни раскаиваться в том решении, которое я приняла.
17
заражение крови, общая гнойная инфекция.
18
воспаление под грудными мышцами.