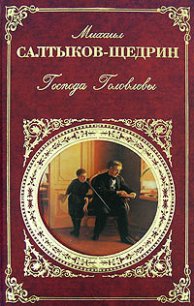Салтыков-Щедрин - Тюнькин Константин Иванович (читать книги бесплатно полностью без регистрации .txt) 📗
«Его привозили в закрытой карете на четверке, — вспоминала Софья Унковская. — У нас он был обыкновенно в хорошем настроении духа: пил воды, гулял с отцом по липовым аллеям сада, писал в кабинете. Вскоре по приезде обязательно посылал в село за батюшкой, любил с стариком попом потолковать о разных вещах, а также поиграть с ним и моим отцом в дураки. «У вас поп преумный», — говаривал он, угощал его вином на террасе и вообще благодушествовал. Салтыков был большой любитель животных, особенно собак, а у нас в деревне было всегда не менее пяти черных «водолазов», да еще несколько гончих собак. Обед наш происходил обыкновенно в липовой аллее, и после обеда Михаил Евграфович нес каждый раз на тарелке остатки от обеда и угощал свою любимую собаку».
Кажется, эти три дня в Дмитрюкове были последними днями, когда болезнь пощадила, отступила, дала передышку. Но они пролетели мгновенно, и уже перед отъездом из Петербурга за границу Салтыков почувствовал себя очень худо. Он почти не спал, волнуемый предстоящим путешествием по железным дорогам, да еще с пересадками, да еще сплохим знанием немецкого языка. Руку и плечо дергала и тянула непрестанная боль, похожая на пиленье тупым ножом: «Когда эти боли наступают, — а продолжаются они целые часы, — то я не знаю, куда деваться. Я не хожу, а шатаюсь от слабости, и писать почти не могу, хотя это для меня необходимо в смысле насущного хлеба». Наконец, 21 июня он приехал к семье в Бад-Эльстер, к семье, которую он страстно любил, но которая, к великому для него, несчастью, не понимала ни глубины его страданий как больного, нуждающегосяв покое человека, ни всей той боли, что рвала его сердце писателя-сатирика. «Я весь дрожу, — пишет он Н. А. Белоголовому в день приезда, каким-то дрожащим, с пропусками букв, сильно изменившимся почерком, — и одышка такая, что сплю не больше четырех часов в сутки. По дороге из Берлина сюда должен был в Рейнбахе остановиться в такой гадости, что с души воротило. Еще особенность: почти совсем не ем. Я уже не о смерти думаю, а о том, что очень тяжело. А меня только и делали, что гнали все за границу. А теперь кстати холодище. Подлые комнаты, гнусный немецкий язык, соседи, которые при малейшем шуме стучат в дверь, — словом сказать, все подлости бродячей жизни. И все это для человека, который давно умирает и может существовать лишь при безусловном спокойствии».
Приехав в Эльстер, Салтыков не собирался оставаться там долго: лишь до окончания курса лечения детей грязевыми ваннами. Он стремился в Висбаден, где жил тогда доктор Белоголовый и остановился нанекоторое время скитавшийся по европейским курортам пораженный недугами бывший «диктатор» Лорис-Меликов.
Салтыков уже не верил тем советам и тем лекарствам, что прописывали ему петербургские доктора, даже такой авторитет, как С. П. Боткин. Он очень надеялся на помощь опытного Белоголового.
Салтыков полон беспокойства: до него дошел слух, что в Висбадене эпидемический тиф; невозможно же ехать с семьей в зараженный город. Но нет, эпидемии там, кажется, нет, и можно ехать. 11 июля Салтыков с семьей в Висбадене.
Душевное и физическое его состояние очень тяжело. Его гложет какое-то смешанное чувство тоски, растерянности, беспокойства, буквально — он боится безумия. В голове туман, шум, нестерпимое гудение. В долгие часы бессонницы появляется мысль о желательности смерти — смерти-избавительницы. «Читая настоящую грамоту, — пишет по приезде в Висбаден Салтыков Елисееву, ироническая интонация не покидает его, — не думайте, что это некий сатирический прием, мною напоследок выработанный. Нет, это настоящее мое писание, — это зеркало, в котором отражаются мои нервы. Suumcuique <каждому свое>. И при этом, представьте себе, бессонные ночи и беспрерывные слезы. Кажется, и Николай Андреевич слегка изумлен. Теряю память слов, и так как за мной никакого ухода нет, то погибаю самым паскудным образом. Об одном молю судьбу: воротиться домой. Болел я с февраля: началось зрением и общим нервным расстройством. И что дальше, то хуже. Затем скарлатина Кости еще подбавила; затем начались сборы за границу, предмет моей ненависти, потому что мне прежде всего нужен покой. А доктора в этом-то именно и видят покой, чтобы меня как сукина сына перевозили. Поезжайте, отдохните — только и слов. Вот и отдыхаю».
Белоголовый и в самом деле был изумлен, хотя и не показал виду. Впрочем, письмами Салтыкова он в какой-то мере был подготовлен к тому, что увидел: Салтыков заметно похудел, и лицо его приобрело бледно-желтый оттенок. Поздоровавшись, он тут же в болезненном изнеможении опустился на стул и с полминуты просидел молча, закрыв лицо рукою. Речь его, когда он заговорил, приобрела странное свойство, слова произносились неясно, это была не речь, а какое-то бормотанье. Правда, вскоре Салтыков оживился, и бормотанье исчезло.
Медицинский осмотр подтвердил то, что наблюдал Белоголовый и раньше — года три-четыре тому назад. «В этом развинченном организме не было ни одного органа нормального, и воистину приходилось удивляться его живучести: сложный сердечный порок, стародавний бронхит, заставлявший подозревать расширение дыхательных путей, хроническое поражение печени и почек, частые кишечные катары и т. п.» — все это было как и прежде, только в самой усиленной степени. Можно было только изумляться тому, как такой организм еще живет, и не только живет, но дает возможность жить гениальному мозгу. Правда, нервная напряженность увеличилась многократно, что сказывалось на ослаблении памяти относительно недавних событий, а главное, то, что больше всего заставляло страдать: мучительно преодолеваемая невозможность сосредоточиться на творческой работе, сильное подергиванье рук и лицевых мышц, раздражительность, переходившая уже все границы...
Белоголовый заметил и другое: стоило отвлечь Михаила Евграфовича от его болезненных ощущений, дать разговору другую тему, волновавшую его, и «по-прежнему приходилось нередко удивляться оригинальности и остроумию этого ума, его изощренности схватывать смешные стороны предмета и возводить их до гротеска». Громадный ум и комическая сила боролись с болезнью и смертью.
В эти дни Салтыкова занимала тема сказки, смысл которой в окончательной редакции был кардинально изменен. Поначалу это была все та же тема Иванушки-дурачка, русского мужика, которого так и не посадили за стол, а сам он, как заснул в незапамятные времена, так все проснуться не может. Белоголовый так записал рассказ Салтыкова: «Родился богатырь, здоровенный, голос как труба, растет в люльке не по дням, а по часам, и все ждут с радостной надеждою: что из него выйдет, когда он вырастет? Вот уж он вышел из люльки и все растет и здоровеет, подрос так, что пора бы уж ему из дому на вольный воздух, а он все сидит и только растет да изумляет свою семью страшной силой. Наконец однажды он встал, потянулся и вышел из дому, родные и знакомые следовали за ним вдали с смутным трепетом радостной надежды, повторяя себе: «Идет, идет богатырь! Ну что он теперь натворит?» Богатырь прямо пошел в близлежащий лес, идет, играючи выворачивает огромные деревья, а толпа, следующая сзади, дивится силе и говорит: «Ну что-то дальше будет?» А богатырь дошел до огромного дупла, остановился, посмотрел внутрь, залез в него, свернулся калачиком и уснул. Долго стояла толпа вокруг дупла в благоговейном ожидании, что сон этот будет непродолжителен, и говорила всем: «Тише, тише, спит богатырь, не будите». Однако, простоявши так немалое время и видя, что богатырь не просыпается, разошлись по своим делам, говоря шепотом: «Тише, тише, не будите, спит богатырь». Пришли вечером, смотрят: все спит богатырь, и храп его стоит по лесу; пришли назавтра — то же самое, да так он и спит все по сие время».
И другими замыслами была полна голова, очередное, восьмое «пестрое письмо» совсем уже сложилось, но писание никак не давалось, несмотря на каждодневные мучительные усилия.
Жена и дети собирались отправиться во Францию, на морские купанья, куда сам Салтыков, конечно, ехать не хотел, да и не мог. После долгих колебаний, вернуться ли в Петербург, или остаться еще на некоторое время в Висбадене под присмотром Белоголового, Салтыков решил остаться. Он поселился в одном пансионе с Белоголовым, и вдруг, отрешившись от всяких семейных забот, забыв о трудных несогласиях и постоянных препирательствах с женой, о детских болезнях, окруженный внимательным уходом и заботой семейства Белоголового, он как-то успокоился, умиротворился. Он внял дружескому совету Белоголового, что не следует насиловать себя в работе, если работа не получается. В висбаденском пансионе образовалось некоторое, пусть иллюзорное подобие того тихого домашнего угла, о котором он давно мечтал.