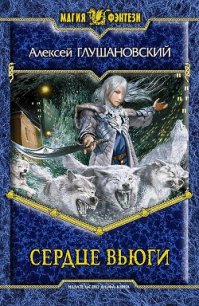Сколько стоит человек. Повесть о пережитом в 12 тетрадях и 6 томах. - Керсновская Евфросиния Антоновна
Наверное, я тоже понимала, что мое вмешательство будет иметь для меня самые плачевные последствия, но я не могла бы и животное, которое мучают, предоставить его печальной судьбе, а тут передо мною был человек.
— Трусы! Как вам не стыдно?! — с негодующим криком бросилась я на выручку старику.
Только чудо (и отчасти мое вмешательство) помогло ему доехать до Дудинки, а не продолжать путешествие по другой реке — Стиксу…
Меня здорово поколотили. Подробностей не помню. Запомнилось почему-то, что били по голове ведром и ведро погнулось. Еще помню, что мой башмак выбросили через иллюминатор. Хотели и меня отправить туда же, но иллюминаторы оказались тесны.
Очнулась я уже в своем углу, и «аисты» суетились, прикладывая компресс к моей голове. Говорят, я сильно бредила. Кто-то вызвал врача — женщину, похожую, скорее, на санитарку. Ее больше всего интересовало, не тиф ли это. Температура, правда, держалась высокая — очень уж много было синяков и ссадин. Она меня всю вымазала йодом, дала аспирину и немного сахара, велев запить водой. До самой Дудинки чувствовала я себя отвратительно, но там встала на ноги, хоть и пришлось шагать по холодной грязи в одном башмаке.
С известным удовлетворением могла я наблюдать, как разделались с нашим этапом. На причале ждал целый отряд вохровцев. Все краденые вещи у бандитов отобрали (но в каком они были виде!). Почти всех мужчин сразу затарабанили на Каларгон, самую страшную штрафную командировку. Больше половины женщин тоже попали на штрафняк — озеро Купец, где велись работы на гравийном карьере.
Профессора Федоровского я потеряла из виду. Лишь года через два-три, узнав, где я нахожусь, он передал мне на шахту через чертежницу проектной конторы Ольгу Колотову очень трогательное, исполненное благодарности письмо. Все эти годы совесть его мучила, оттого что он не мог меня поблагодарить… А за что, собственно говоря? За то, что меня поколотили? Хотя, занявшись мной, они его бросили.
Профессора Федоровского посадили в 1937 году, но дали ему возможность завершить свою научную работу, имевшую оборонное значение. Где-то под Москвой в его распоряжении находились лаборатории и даже целый научный городок. Там у него был свой коттедж, в котором с ним жила жена. Он рассчитывал, и ему это обещали, что по завершении работы его выпустят на свободу. Когда же работа была окончена, его этапом отправили в Красноярск, где он в Злобине занимался погрузкой барж. Это был ученый — человек не от мира сего, и на погрузке толку от него было мало. Поэтому, когда он попросился в Норильск, где в образованных людях очень нуждались, эту просьбу удовлетворили. Преподавал он в горно-металлургическом техникуме, а жил не то во втором, не то в девятом лаготделении.
Бедняга… Не судьба была ему выйти на волю! Он даже не знал, какой у него срок, думал — десять лет. Но, когда этот срок истек, ему сказали, что пятнадцать. Он скончался от инфаркта. Человек, живший только наукой и для науки, умер в неволе, так и не поняв, за что его осудили…
Как роботы из фантастического романа
Дудинка — речной порт, но он принимает и океанские пароходы. Караваны барж приходят сюда и из Красноярска, и с низовьев Енисея — по Северному морскому пути из Мурманска. Дудинка, очень крупная перевалочная база, являлась четвертым лаготделением Норильска.
1944 год. Война. Шахты и рудники на материке, в европейской части страны, оккупированы врагом, взорваны, залиты водой… Норильск — это никель, столь нужный для войны. Почти весь он шел отсюда. Поэтому Норильск должен жить, должен работать.
Заключенные, составлявшие в те годы почти все население города, не должны умирать, не принося пользы. Они должны продуктивно работать, поэтому их нужно кормить. Американцы это понимают. Понимаем и мы, так как продукты, которые выгружаем из барж и грузим в вагоны, — американские (кроме соленой трески и солонины). Горы ящиков с консервами, салом, смальцем; горы мешков с тростниковым сахаром, соевой крупой.
И нас кормят!
У хорошего хозяина собака не стала бы есть то, что нам дают, но я после Томска и Новосибирска ахаю, глядя на такое изобилие: 800 граммов хлеба, два раза в день по литру баланды, густой от отрубей, а иногда и от крупяной сечки, и по 200 граммов соленой трески. Невероятно!
Но зато — работа… На часы не смотрят, смотрят на вагоны. Они маленькие, емкость их мизерная. Им нельзя простаивать. И мы работаем, как роботы из фантастического романа. Навигация очень непродолжительна, месяца два-три с половиной, и то последний караван барж обычно замерзает где-то на полпути.
Бывают «веселые» погрузки, которым мы радуемся: сахар, смалец, даже крупа. Тут не грех, если тара «нарушена» (а об этом заботятся урки), зачерпнуть горсть — и в рот. Какое блаженство!
Зато когда приходится грузить цемент — и тяжело, и пыли наглотаешься. Но еще хуже кирпичи. Не давали ни рукавиц-верхонок, ни «козочек» — приспособлений для переноски кирпичей на спине. Грузчики постоянно менялись: прибудет новый этап — старый этап идет дальше, так стоит ли расходовать рукавицы?
Приходилось таскать кирпичи голыми руками, и притом в бешеном темпе: вагоны были нужны под продукты. К вечеру на руках вместо кожи тонкая пленка и кровавые лохмотья.
Мое счастье, что я люблю работу и нахожу в ней удовольствие, если могу хорошо и красиво ее выполнить. А такая сноровистость помогает не слишком калечить руки. Если работать охотно, то легче не замечать боли и усталости и, что еще важнее, забывать свое горе.
Торт «Наполеон» в черном ущелье
Не суждено заключенному нагреть где-нибудь местечко! Лишь в могиле его больше не перегоняют с места на место, но там, как известно, не обогреешься.
Итак, настало время вновь сниматься с якоря. Одно утешало: Норильск — это конец пути… По крайней мере так мне казалось.
Теперь Норильск — крупный промышленный центр и к тому же красивый, благоустроенный город. Туда ведет ширококолейный железнодорожный путь. Имеется аэропорт. Автобусы доставляют приезжающих в центр города на Гвардейскую площадь.
Совсем не так добирались туда в 1944 году…
Узкоколейка петляет среди бесчисленных озер. Мы едем на открытых платформах, дребезжащих и качающихся. Ночь, а солнце светит — желтое и совсем неяркое. Сверкающая дорожка пролегла от него до самых колес нашего вагона, который чем-то похож на спичечную коробку, и катится она по какой-то игрушечной железной дороге.
Опускаясь все ниже, ниже, солнце коснулось горизонта и как бы покатилось по касательной. Первого августа оно еще не заходит, но через восемь — десять дней уже будут зажигать фонари.
Конец июля — еще не лето. Днем почти жарко, но теперь, несмотря на солнце, холодно. Конвоиры — их по двое на каждой платформе — отделены от нас экраном. Они явно зябнут в шинелях с поднятыми воротниками. Мы — на полу, согнувшись в три погибели. Ужасно неудобно! Ноги затекают, немеют, болят… Но вставать не разрешается.
Вдали видны горы. Вскоре горы и по сторонам. На соседней платформе мужчины что-то объясняют, жестикулируют. Среди них есть уже побывавшие в Норильске, хотя бы Мишка Карзубый: нет лагеря, где бы он не сидел.
Станция Каеркан. Самая высокая точка трассы. Нам разрешают сойти с платформы «за нуждой». У самого железнодорожного полотна — снег, оставшийся с зимы. На душе как-то гадко. Так подействовал вид снега в июле. Что же здесь будет зимой?
И все же грех жаловаться! Первые партии «заполярных казаков» прокладывали этот путь пешком. А нас из Дудинки в Норильск пусть битых 12 часов, но везли, вдобавок в июле. Куда хуже в конце сентября и в октябре ехать под снегом, дождем и пронизывающим ветром! И ведь самые большие этапы приходились как раз на конец октября, когда в Красноярске заканчивались погрузочные работы и к концу навигации требовалось освободить Злобинский «невольничий рынок».
До чего же неприглядным показался Норильск сквозь сетку дождя! Близость угольных шахт и мест, где живут, трудятся и умирают люди, лишенные всех человеческих прав, никогда не украшает место жительства. Мы смогли вдоволь налюбоваться Нулевым пикетом, так называется геодезическая точка, откуда начинается отсчет трассы Норильск — Дудинка.