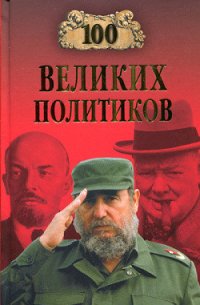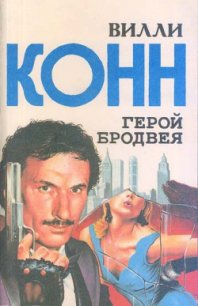Воспоминания - Брандт Вилли (читать книги онлайн без сокращений TXT) 📗
Громкие слова, малые шаги
В августе 1961 года раскол Берлина был отлит в бетоне — вопреки закону жизни города, вырастившего не одно поколение, и, как я был убежден, вопреки ходу истории. 25 лет спустя Рональд Рейган заявил в Вашингтоне, что, если бы он был в то время президентом, он приказал бы снести стену. Когда один американский журналист спросил меня 13 августа 1986 года в Берлине, что я об этом думаю, я отказался от какого-либо комментария. Почему же я счел неуместным вступать по этому поводу в Берлине в полемику с президентом США? Мне пришлось бы тогда спросить, какие военные меры он рассчитывал бы предпринять. Ввод войск? С какой целью и какой ценой? Громкими словами после того, что произошло, нельзя было ровным счетом ничего добиться. Конечно, Рейган публично призвал Горбачева уничтожить стену. Но во время переговоров со своим русским партнером он сделал упор на другом и никоим образом не подверг сомнению закрепленный в 1945 году в Ялте раскол Германии. Я не стал с ним из-за этого спорить.
Берлин в конце войны получил четырехсторонний статус и должен был управляться совместной комендатурой держав-победительниц. Однако права и обязанности четырех держав были недостаточно четко сформулированы — о будущих правах немцев в то время, разумеется, не задумывались. В принципе, каждый комендант должен был управлять своим сектором по своему усмотрению или по велению своего правительства. В 1948 году Советы покинули совместную комендатуру, и в том же году по их приказу из Старой ратуши в восточном секторе были изгнаны избранные населением общегородские власти: городская палата депутатов и магистрат. Все руководящие должности в советском секторе получили нужные русским люди. Позднее так называемый четырехсторонний статус (от которого уже в 1948 г. почти ничего не осталось) был использован для того, чтобы завуалировать политическое ничегонеделание. В Бонне культ статуса и намерение сохранять раскол были особенно тесно связаны друг с другом.
Меня часто спрашивали: когда я, бургомистр, узнал о предстоящем возведении стены? И что я против этого предпринял? Мой ответ гласил: я опасался, что доступ из ГДР в Восточный Берлин будет затруднен, а пропускные пункты оттуда в Западный Берлин в основном перекрыты. Тенденцию к такого рода развитию можно было предвидеть, но нельзя было определить, когда и в какой форме это произойдет. Иначе я бы не оказался в субботу 12 августа в Нюрнберге, где должен был состояться массовый митинг, открывающий кампанию перед выборами в бундестаг.
По пути в Нюрнберг в пятницу я остановился в Бонне и в серьезной беседе с министром иностранных дел в последний раз безуспешно попытался побудить его расширить тему выступления, включив весь берлинский вопрос. Выступая в Нюрнберге на Марктплатц, я пытался объяснить причины обострения обстановки: страх наших земляков в зоне, что их отрежут, оставят в одиночестве и изолируют, привел к драматически быстрому росту числа беженцев.
Начиная с 1945 года восточную зону, а впоследствии ГДР покинули почти три миллиона человек. В первой половине 1961 года насчитывалось 120 тысяч беженцев. Однако после неудавшейся венской встречи Кеннеди и Хрущева в июне 1961 года этот поток превратился в массовый исход. В июле бежали на Запад 30 тысяч человек. Только 12 августа в Западный Берлин прибыли две с половиной тысячи наших земляков. Это, как мы тогда говорили, массовое «голосование ногами» вряд ли было приемлемо для другой стороны. Возникла угроза, что в ГДР никого не останется. Казалось, что за ужасным возгласом «Народ без пространства» вскоре последует — «Государство без народа». Для меня не было неожиданностью, что Советы и немецкие коммунисты предпримут все возможное, чтобы воспрепятствовать массовому бегству на Запад. Но я не предполагал, что Восточный Берлин замуруют, а проходящую через город демаркационную линию оденут в камень. Мы забыли или вытеснили из нашего сознания план, предложенный в 1959 году. В то время ходили слухи, что восточно-берлинский бургомистр Эберт, сын первого президента Веймарской республики, настаивал на сооружении «китайской стены», но натолкнулся на советское вето. Проект, разработанный, как говорили, под руководством Эриха Хонеккера, попал в долгий ящик, из которого его снова извлекли в 1961 году.
Я не скрывал своих опасений, а старался довести их до сведения союзников, федерального правительства и более осторожно — до общественности. В тот день, 11 августа, когда в народной палате ГДР было объявлено о мерах против «торговцев людьми, вербовщиков и саботажников», я настойчиво предупреждал федерального министра иностранных дел Генриха фон Брентано об опасности жесткой блокады: вероятно, власти ГДР, говорил я, следуя инстинкту самосохранения, обратятся к вышестоящим советским органам с настойчивой просьбой дать свое благословение на принятие крайних мер. Я не подозревал, что к тому времени Советский Союз уже давно дал Ульбрихту «зеленый свет» на проведение полной изоляции. Этот сигнал он получил от Советского Союза и других стран Варшавского пакта на совещании стран Восточного блока, проходившем 3–5 августа 1961 года в Москве.
Лишь позже мне стало известно, что этому предшествовало: в середине марта 1961 года Ульбрихт потребовал от пленума ЦК своей партии принятия самых решительных мер, сообщив, что он обратится непосредственно к кремлевскому руководителю. Я знал, что советский посол в Бонне вручил 17 февраля федеральному канцлеру два документа, касавшихся Западного Берлина и заключения мирного договора, которым нам угрожали. Если договор с ГДР не будет принят, говорилось в этих документах, а оккупационный режим в Западном Берлине ликвидирован, придется считаться «со всеми вытекающими отсюда последствиями». Американцы совершенно правильно оценили эту угрозу: после ультиматума 1958 года огонь берлинского кризиса никогда полностью не угасал. В 1959–1960 годах он почти потух, но затем вспыхнул с новой силой.
В конце марта заседал Политический консультативный комитет стран Варшавского пакта. На нем Ульбрихт изложил, почему усиленный пограничный контроль и проволочные заграждения недостаточны, а необходимы бетонная стена и частокол. Никто его толком не поддержал, но и никто особенно не возражал. Хрущев вел себя сдержанно. Тем не менее глава СЕПГ после этого совещания почувствовал себя настолько уверенным, что по возвращении он поручил Эриху Хонеккеру — ответственному за национальную безопасность — позаботиться о стройматериалах и рабочей силе, сохраняя при этом секретность и максимальную осторожность. 15 июня на пресс-конференции прозвучали слова Ульбрихта: «Никто не собирается возводить стену».
Через несколько лет мне передали, что Хрущев на том совещании согласился только на проволочные заграждения, а стену следовало воздвигнуть лишь после того, когда станет ясно, как на это отреагирует Запад. Строительство стены и в самом деле началось лишь 16 августа, а 13-го речь еще шла о проволочных заграждениях на бетонных столбах, отгораживавших восточный сектор от Западного Берлина.
Мы оказались абсолютно неподготовленными. Когда это случилось, нам поначалу не пришло в голову ничего лучшего, чем твердить: «Стена должна исчезнуть!» Контрмеры, которые могли бы привести к каким-то результатам, у западных держав интереса не вызывали. Назревала угроза глубокого кризиса доверия. То, что для берлинцев было днем ужаса, должно было объективно стать для правительств западных держав днем облегчения, ибо их права, касавшиеся Западного Берлина, остались неприкосновенными, и опасность войны была устранена.
Почему же не признать открыто и прямо: так же как и многие мои сограждане, я был разочарован тем, что Запад оказался неспособным, не пожелал или, во всяком случае, не смог, ссылаясь на столь часто цитируемый четырехсторонний статус, проявить инициативу, которая избавила бы Германию и Европу от этого монстра — «стены позора». В те дни не было ни времени, ни желания, чтобы поставить себя мысленно на место восточной стороны и правильно оценить слова Хрущева о том, что стена — это вынужденное решение, поспешная акция по спасению ГДР. Осенью 1961 года Никита Хрущев спросил посла Кроля, что ему, собственно говоря, оставалось делать при таком количестве беженцев? Германский посол ответил буквально следующее: «Я знаю, что стена — это безобразное дело. И в один прекрасный день она исчезнет… но только тогда, когда отпадут причины, ее породившие».