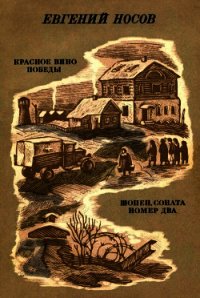Шопен - Оржеховская Фаина Марковна (онлайн книги бесплатно полные TXT) 📗
Печальная песня, но мелодия так хороша, что ее повторяют и в веселый час.
В кружке у Ганны были только трое: она, Домек и Фридерик. Но вскоре их разлучили. Усатый «гетман» вновь захлопал в ладоши, и по этому знаку танцоры опять стали строиться в пары. Ганка очутилась рядом с братом кузнеца, а Фридерик – впереди с веселой Данутой, ровесницей Ганки. Теперь уже шли без горящих каганцов. Фридерик оживленно разговаривал со своей парой. О чем это? Брат кузнеца сказал, что у многих огоньки погасли, только у пана Фридерика сохранился дольше, чем у других, а это означает долгую жизнь.
У Ганки одной из первых потух ее огонек. Такая судьба…
Но вот опять начались танцы. Скрипач был мастер, струны его скрипки пели, подпевали, ухали, гудели, скрипели. Ганка опять очутилась в паре с Фридериком. Он успел сказать ей, что Шафарня ему нравится своей уединенностью – сюда еще не проникли городские влияния и сохранились древние напевы.
– Да, – сказала Ганка, – а паныч в городе живет?
– В Варшаве. И я не паныч.
– Хоть бы разок побывать в Варшаве!
Тут к ним подошли две дивчины, босоногие, с венками на головах, и после долгих перемигиваний и взаимных подталкиваний пропели, глядя на Фридерика:
Шалуньи, кажется, собирались приплести варшавянина к концу каждого куплета, если не каждой строки… В следующей строфе они упомянули про гумно и прясло и тут же сравнили варшавянина с худой, облезлой собакой. Польщенный оказанным вниманием, Фридерик на всякий случай осведомился, не о нем ли идет речь. Дивчины визгливо засмеялись и побежали прочь, а Ганка объяснила, что они не хотели его обидеть: гостя принято приветствовать на празднике, а он действительно очень худой.
Танцы продолжались своим чередом. – Ксеб! – выкрикивал гетман. Это означало: к себе! – и все танцоры начинали кружиться в левую сторону. При этой «ксебке», разумеется, сталкивались друг с другом, наступали на ноги, сердились – и смеялись. Скрипач играл, что хотел, – в самом разгаре веселья вдруг перешел на плавную мелодию, слишком медленную для танца. Под нее хорошо было пройтись об руку свободным шагом, поговорить о чем вздумается, но, конечно, не отставать от такта и быть начеку, потому что гетман, да и сам музыкант готовили новый, неожиданный подвох.
– Мой огонек давно погас, – сказала Ганка. – Значит, недолго мне жить!
– А ты не верь глупым приметам! – с досадой отозвался Фридерик. – Моей маме предсказали, что я умру восьми лет, и видишь, еще столько же прошло, и я живехонек! А мама так страдала!
– Самое большое благо, – произнесла Ганка задумчиво, – это не знать своего смертного часа! А мама у паныча, наверное, очень красивая! Глаза голубые…
– Совсем голубые.
– И у паныча такие же…
– Что ты! Это только так кажется! У меня желтые!
– А есть еще братик или сестричка?
– Целых три сестры. Они бы тебе понравились!
– Отсиб! – оглушительно провозгласил гетман, и все резко повернули от себя – вправо. Ганка от неожиданности так и упала на Фридерика, а рядом один долговязый танцор споткнулся и растянулся на полу, к счастью не успев потянуть за собой свою даму. О медленной прогулке забыли. Начался общий пляс: притопывание каблуками, подбрасывание девушек кверху, кружение на одном месте и стремительный лёт вперед. Танцоры, разгорячившись, пели, выкрикивали: – Эй, хлоп! Дана-дана! – Отдельные хоры перекликались, отвечая друг другу с разных концов.
– Веселись, гуляй, разгорайся, мазовецкая кровь! Здесь, на Куявии, мы также покажем себя! – Фридерик старался не отставать от танцующих: ведь и он из Мазовии! Пляска и песня – одно целое, одна душа! Веселье разгоралось, как пожар; казалось, оно охватило всех: подпрыгивали и кружились дети, выкидывали коленца старики. Теща кузнеца, подбоченясь, приплясывала одна, без пары, и припевала:
Но ее заглушал мощный хор молодых хлопцев, налетевших издалека, подобно жаркому вихрю:
Казалось, они скачут на разгоряченных конях.
– Каково?! – кричал Домек, проносясь мимо. Он, кажется, готов был танцевать всю ночь, до рассвета. И громко пел:
Хотя он вовсе не был мазуром. А также и забиякой.
Но Фридерик уже чувствовал усталость…
Да и то сказать – ночь быстро пролетала. Уже не все гости принимали участие в огненном мазуре. Нашлись одинокие меланхолики, которые стояли в стороне. Две девушки гуляли вдалеке, обнявшись. Еще несколько фигур бродило на лугу. И какой-то неприкаянный хлопец слонялся одиноко и напевал про себя:
Глава тринадцатая
… Что за странные звуки раздаются по вечерам со стороны пруда – не то смех, не то плач, не то крик о помощи? Это стонет неведомая птица, предвестница близкой осени. Так объяснила Ганка.
Раньше этих звуков не было слышно. Сегодня в первый раз за все лето…
– Теперь ночи уже прохладные, – заметил Фридерик, поеживаясь. – Чувствуется, что осень недалека…
_ Да, – отвечала Ганка, – а за ней зима!
– Зимой, вероятно, не так тоскливо.
– Да, снег кругом… Как саван…
– Ну что ты, Ганна!
… Над прудом поднимался туман.
– Что же ты, совсем не умеешь читать? – спросил Фридерик.
Ганка потупилась.
– Совсем не умею.
– Жаль. Я написал бы тебе письмо из Варшавы.
– Напишите, – сказала она тихо.
– Кто же тебе прочтет?
– Никто. Я никому не покажу.
– Какой же тебе толк в письме?
– Так.
– Да.
– Какой же? Что тебе нарисовать?
– Не знаю.
– Может быть, тебя? Как ты пела на заборе?
– Да. Но письмо – тоже.
– Ты же его не разберешь? Молчание.
– Зачем же оно тебе?
– Так.
…Снова послышался хохот или крик, только еще страшнее, чем прежде.
– А люди говорят, это не птица… – сказала Ганка.
– Кто же?
– Вила.
– Вила? Русалка?
Об этом он слыхал. Девушка бросилась в реку и там сделалась русалкой. В светлые, лунные ночи она выплывает на берег.
– …К берегу подходит старуха, – таинственно зашептала Ганка, – и приносит младенца, красивого, как месяц. – Выходи, Кристина, – кличет она, – покорми свое дитя! – И выходит Крися на берег, и кормит дитя, и обливает его слезами.
– А ты отчего плачешь?
– Так. У меня сестра здесь утонула. Давно… Рассказывали и по-другому. Несчастная вила не может ни петь, ни плакать. Это ей наказание за то, что наложила на себя руки, самовольно покинув землю раньше, чем бог призвал ее. Выходит она по ночам на берег, смотрит в ту сторону, где ее родное село, и вспоминает свою беду…
– По-моему, это не польская песня. Но очень хороша!
– Здесь были девушки из Литвы и с Украины. Может, они привезли…
– А дальше что?
– А дальше – вспомнила свою жизнь. Хотела заплакать – не смогла, хотела запеть – не смогла. Сотворить молитву забытую хочет, Нет для ней молитвы, – и она хохочет.