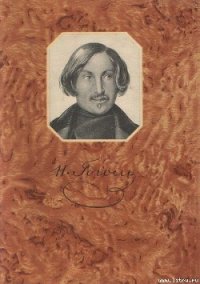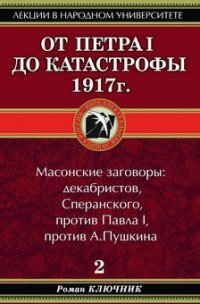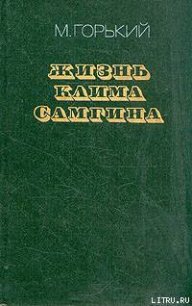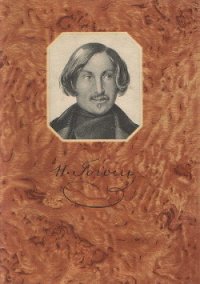Гоголь - Золотусский Игорь Петрович (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
Так — как бы в ответ на упрек Гоголя в разбрасывании — сосредоточивается Белинский. И это сосредоточенье проходит вблизи Гоголя и связывается с желанием вновь вернуться к художественным сочинениям Гоголя и понять и объяснить их читателю. Им овладевает мысль написать цикл статей о Гоголе, подобно циклу статей о Пушкине. Он желает с учетом взглядов «позднего» Гоголя и своего нового настроения разобрать и «Ревизор», и «Мертвые души», и повести «Миргорода» и «Арабесок». «Мне надо будет писать о Гоголе, может быть, не одну статью, — признается он в письме к одному своему молодому последователю, — чтобы сказать о нем последнее слово».
Он заводит речь о Гоголе в связи с узким толкованием его комизма, понимаемого только как сатира и осмеяние.
«...Вы не совсем правы, видя в нем только комика. Его „Бульба“ и разные отдельные черты, рассеянные в его сочинениях, доказывают, что он столько же трагик, сколько и комик, но что отдельно тем или другим он редко бывает в отдельном произведении, но чаще всего слитно и тем и другим. Комизм — слово узкое для выражения гоголевского таланта. У него и комизм-то выше того, что мы привыкли называть комизмом».
Как будто листая рукопись пишущегося вдали от его глаз второго тома «Мертвых душ», он называет почти всех будущих героев Гоголя из числа «благородных» — и благородного помещика, и благородного чиновника, и «доблестного губернатора». При этом он сознает их трагизм и говорит, что в России они не могут не быть «гоголевскими лицами», то есть лицами отчасти смешными, отчасти неидеальными, ибо «хороший человек» в нашем отечестве или невежда, или колотит жену, или уж так чист и высок, что непременно загремит в Сибирь (Тентетников). Он перебирает в уме типы «честного секретаря уездного суда», «разбойника» (уже существующий в первом томе Копейкин), а о доблестном губернаторе (будущем гоголевском князе) замечает, что его судьба — «с удивлением и ужасом» понять, что он «не поправил дела, а только еще больше напортил его и что, покоряясь невидимой силе вещей (полное угадывание ситуации второго тома. — И . 3.), он должен считать себя несчастливым».
3
Это совпадение в обсуждении тем и образов русской жизни у Гоголя и Белинского удивительны. Диалог не закончен, он продолжается. Более того, он становится в полном смысле слова диалогом, ибо теперь во весь голос слышатся обе точки зрения и одна проникает в другую, происходит обмен, обе стороны говорят не «мимо», а друг для друга. Когда Гоголь писал в беловике Белинскому, что он «потрясен» его «Письмом», он был искренен. Но и ответ Гоголя (при всей его краткости) не был пустым звуком для Белинского.
«Я сознаюсь, но сознаетесь ли вы?» — этот вопрос Гоголя все сильнее звучал в его ушах, когда он сверял то, что увидел в Европе и что принесли оттуда вести о событиях 1848 года, со словами Гоголя «об излишествах». Идея социальности («социальность, социальность — или смерть!» — заявлял он еще недавно) начинает бороться в нем с непосредственным чувством искусства, которое никогда не оставляло Белинского и лишь в иные минуты затемнялось «головой» (я «всегда жил головой, — говорил он о себе, — и сумел даже из сердца сделать голову») .
Еще в Зальцбрунне, до получения «письмеца» Гоголя, он читает не что иное, как «Мертвые души», которые захватил с собой, и пишет жене: «я вовсе раскис и изнемог душевно, вспомнилось и то и другое, насилу отчитался «Мертвыми душами». Отчитался — значит облегчил душу, снял напряжение, освежился чистым веянием поэмы, как ни страшна казалась нарисованная в ней картина. Это смягчение и в отношении искусства усиливается по возвращении в Россию: он смягчается не только в отношении Гоголя, но и к славянофилам. Ноты уважения слышатся в его оценке молодого поколения славянофилов, в особенности их начитанности, капитального знания литературы и истории. «Мне он сказал об Ипатьевской летописи, — пишет он о Самарине, — а я и не знаю о существовании ее...» Какая-то боль уходящей жизни и ускользающего влияния на молодежь чувствуется в этих словах. Письма Белинского той поры — единственные свидетели его меняющегося сознания.
Они все еще стоят по разные стороны разделяющей их межи, но внутренне каждая сторона задумывается о правоте другой.
Однако то, что совершается в их душах, уже не может повлиять на Россию. Уже собираются кружки и партии, где читают Фурье и Сен-Симона, уже молодой автор «Бедных людей» прозревает готовящуюся ему каторгу, а Герцен в Париже подумывает об издании вольного русского журнала. Поражение революции не остановит его. И именно в этом журнале (в «Полярной звезде») опубликует он через несколько лет переписку Гоголя и Белинского.
Вот где разверзалась «бездна». Гоголь это понял раньше, Белинский позднее. Но вовремя поняли это и объединили их как врагов, как разносчиков духа критики и отрицанья те, которым сей дух грозил. В 1848 году один из экспертов Третьего отделения по литературе доносил в это учреждение: «Белинский и его последователи... нисколько не имеют в виду коммунизма, но в их сочинениях есть что-то, похожее на коммунизм». Белинский «не признает никаких достоинств ни в Ломоносове, ни в Державине, ни в Карамзине, ни в Жуковском, ни во всех прочих литераторах, восхищается произведеньями одного Гоголя, которого писатели натуральной школы считают своим главою... Превознося одного Гоголя... они хвалят только те сочинения, в которых описываются пьяницы, развратники, порочные и отвратительные люди, и сами пишут в этом же роде. Такое направление имеет свою вредную сторону, ибо в народе... могут усилиться дурные привычки и даже дурные мысли...»
Итак, здесь их ставили рядом. Здесь никому не было дела до различия в их взглядах. Один был глава школы, другой тоже глава, но теоретически — за ними тянулся список последователей. Все это походило почти что на заговор, хотя и литературный. Ни Гоголь, ни Белинский, конечно, не знали об этом. Гоголь находился на пути в Иерусалим, Белинский умирал на своей квартире в Петербурге.
На дворе стоял високосный 1848 год. Он начался потрясениями в европейских столицах. Сначала взволновалась Италия, потом восстал Париж. Эхо перекинулось в Вену, Берлин. В Праге собрался сейм, который потребовал федеративного устройства славян. Австрийцы расстреляли его пушками. Разгневанный Николай решил двинуть на Европу войска. Был уже отдан приказ, но европейские послы выразили протесты.