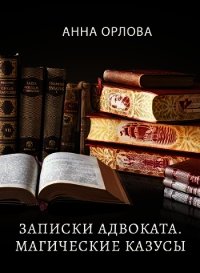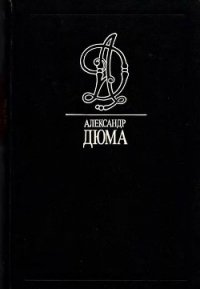От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката - Падва Генрих Павлович (читать хорошую книгу .TXT) 📗
— Да брось ты, не может же именно он тебе достаться.
Действительно, такая вероятность была крайне невелика, но, тем не менее, его я и вытащил на экзамене! Помню, когда я увидел, что у меня в руках именно этот билет, то, повернувшись к своим друзьям, я громко и со значением провозгласил:
— Билет номер двадцать семь!
Как уж я выкарабкался в тот раз на тройку — не знаю.
Мои любимые предметы были в основном гуманитарные. Мне очень нравились уроки истории, и я с наслаждением слушал нашу историчку Любовь Исааковну. А в последних классах русский язык и литературу у нас преподавал интереснейший педагог — Котляревский (вот не помню, к стыду своему, имени-отчества сейчас). Он был, как тогда говорили, «из бывших», водил нас в музеи, захватывающе рассказывал о Маяковском, которого знал лично. Благодаря ему я не просто успевал по этому предмету в школе, но действительно любил литературу.
Удивительно, что некоторые люди вспоминают школу без всякого тепла — как довольно скверный период в жизни. Оно и понятно: кому нравится рано вставать и идти учиться, кому охота делать уроки, сидеть на скучных занятиях или сдавать экзамены? Я тоже, как любой нормальный мальчишка, всего этого терпеть не мог. Но я очень дорожил своими школьными друзьями, мне нравилась сама школьная атмосфера, без разнообразных школьных дел мне было бы просто скучно.
Да и что дома-то делать?! Правда, была Алка, и мы по-прежнему с ней дружили, но уже меньше, чем в раннем, дошкольном детстве. Она была на класс старше, и я ей и ее подружкам был совершенно не интересен. Они предпочитали сверстников или ребят постарше. Ну, а я кто был такой для них? Так, Алкин брат, мелюзга.
В школе я с удовольствием участвовал в художественной самодеятельности — играл Мишку Квакина в постановке по книге «Тимур и его команда» [9], и все говорили, что это не случайно: сам был хулиганом. И правда, я очень много дрался — по многим поводам, да и без повода, наверное, тоже. Отчасти поэтому меня не приняли в комсомол, куда я, впрочем, не очень и стремился.
Были в моей школьной биографии два случая, когда меня едва не выгнали из школы. Что касается первого, то я уже и не помню сейчас, кто и что именно совершил, но это было серьезным проступком, и подумали почему-то на меня. А я знал истинного виновника, но, конечно же, выдать его не мог, мне оставалось только отрицать свою вину, а назвать имя правонарушителя я отказывался.
Маму вызвали в школу и потребовали объяснить мне, что недоносительство — это неправильно понятое чувство товарищества. Пригрозили нехорошими последствиями для меня. Она обещала на меня воздействовать, но дома, наедине, сказала: «Ты — молодец». Страшная кара исключения меня тогда все же каким-то образом миновала. И я был счастлив, что мама меня поддержала, не поставив перед необходимостью выдать товарища. Это был один из многих нравственных уроков, которыми я ей обязан. Были и другие, например когда я в первый раз подрался во дворе и пришел к ней в слезах с мольбой о помощи, а она меня отправила разбираться с обидчиками самому — нечего, мол, жаловаться. Это я тоже на всю жизнь запомнил.
Ну а второй случай, чуть было не ставший причиной моего исключения из школы, был совершенно замечательный. Мы с друзьями шли по Гоголевскому бульвару и сорвали буквально пару листочков с деревьев. Но нас немедленно задержала милиция, и в школу скоро пришла «телега»: портили древонасаждения. Мы совершенно точно не причинили растительности бульвара серьезного вреда, но вот с милиционерами, признаюсь, разговаривали не слишком вежливо. Перед директором мы пытались оправдаться, но у меня была репутация отъявленного хулигана (в отличие от моего товарища-тихони Николаева, который попался вместе со мной), так что вопрос об исключении снова встал. Однако и на этот раз обошлось.
110-я школа дала мне очень близких друзей. Нас было четверо: Толя Ржанов, Лева Гинзбург, Алеша Николаев и я. Одно время к нам примыкали то Леня Золотаревский, то Миша Гуревич, то Володя Машкевич, но основная наша «четверка» оставалась неизменной все школьные годы.
С Володей Машкевичем я помню смешную историю. Как-то в доме у Левы Гинзбурга сидели он, не помню точно — Алеша или Толя и я. В какой-то момент прозвучало случайно что-то по поводу моей национальности, и Володя вдруг вскочил и в гневе закричал:
— Герка-то — подлец!
Мы все остолбенели:
— Что случилось?!
— Он скрывал свою национальность!
Все мы дружно расхохотались: мол, о чем ты говоришь, что за вздор?
— Да, — продолжал изобличать меня Володя, — я как-то спросил его, кто он по национальности, и он сказал: «Конечно, американец».
После этого с Левкой просто была истерика. Он хохотал, у него лились слезы, мы все ему вторили, а Володя, недоумевая, озирал нас всех и долго не мог понять, что же тут смешного.
Мы очень много времени проводили друг с другом, не только во время учебы, но и вне школы, и летом в каникулы. Мы любили друг друга, ведь дружба сродни любви, но, как говорил Шота Руставели, «бескорыстней, чем любовь».
В классе мы сидели так: на предпоследней парте — Лева Гинзбург и Алеша Николаев, а на самой задней — Толя Ржанов и я. На уроках я часто отвлекался, болтал с кем-нибудь из своих друзей, играл с ними в морской бой или в слова. А в кабинете химии, где были большие длинные столы, мы сидели за одним столом все четверо.
Два моих друга были из музыкальной среды. Лева — сын известного пианиста, лауреата Государственной премии Григория Романовича Гинзбурга. Алешин отец — Александр Александрович Николаев — был профессором и одно время проректором Московской консерватории, по его учебнику «Школа игры на фортепиано» училось и продолжает учиться не одно поколение пианистов. Выросшие в семьях музыкантов, они безжалостно надо мной издевались и иронизировали по поводу моего «слухового аппарата». Например, однажды на уроке химии они уговаривали меня напеть начало Первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром, а я хоть и помнил, конечно, первые аккорды этого произведения, но напеть постеснялся, так как фальшивил отчаянно. Для моих друзей это стало поводом говорить об упадке культуры: мол, даже представители интеллигенции вроде Герки не знают знаменитый концерт!
Как-то я все же попытался реабилитироваться, в дневнике немедленно появилась запись учительницы химии: «Пел на уроке, сам признался». Спел же я что-то из Моцарта — кажется, «Турецкий марш». Но этого не оценили ни учительница, ни мои друзья: они сделали вид, что ничего не слыхали.
К сожалению, Алеши Николаева уже нет с нами — мой друг умер несколько лет назад.
Он стал композитором и вроде был вполне обласкан судьбой: имел звание народного артиста России, стал профессором Московской консерватории, лауреатом различных премий, секретарем Союза композиторов РСФСР. Но при этом он не был популярен и широко известен — может быть, потому, что писал только серьезную музы icy (никогда никаких шлягеров или поп-песенок!), не был модерновым композитором, оставаясь приверженцем классики, а она казалась многим современникам уже не слишком интересной и востребованной.
Алеша создавал музыку для спектаклей Театра Петра Фоменко, который его очень любил и ценил. Музыка моего друга звучит во многих фильмах. Им написано восемь опер, среди них «Пир во время чумы» и «Граф Нулин» по А. С. Пушкину, «Мыслитель» по А. П. Чехову, «Последние дни» по М. А. Булгакову, множество вокальных циклов, в том числе на стихи М. Цветаевой, И. Бунина, Б. Баратынского, П. Вяземского, Ф. Тютчева, Н. Заболоцкого, А. Твардовского. Музыкальные способности сочетались в Алексее с необыкновенным благородством и блестящим ироничным умом. Я всегда преклонялся перед его разносторонней одаренностью.
Эта одаренность проявлялась даже в наших играх. Вот играли мы, например, в слова: из букв длинного слова составляли новые слова. Алеша придумывал больше всех и выигрывал. Когда мы вместе готовились к экзаменам, он, как правило, получал пятерки, а я порой даже и тройки. То ли память его была лучше, то ли он умел лучше сосредоточиться и лучше ответить — не знаю.
9
Самая известная повесть советского детского писателя Аркадия Петровича Гайдара (Голикова), написана в 1940 г. В ней описываются приключения некой организации школьников: под предводительством мальчика по имени Тимур они тайно помогают членам семей красноармейцев и борются с хулиганами и садовыми воришками из банды Мишки Квакина. После выхода книги о Тимуре понятие «тимуровца», то есть пионера, помогающего людям, широко разошлось по всему СССР. Позже, когда «тимуровская» работа в массе стала не добровольной, а навязанной со стороны школы и пионерской организации, у советских школьников это понятие приобрело саркастический смысл.