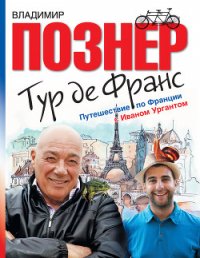Прощание с иллюзиями - Познер Владимир Владимирович (читаем книги онлайн бесплатно полностью без сокращений txt) 📗
Полагаю, что холодная война отразилась на Соединенных Штатах точно так же; приведенный выше абзац вполне актуален и в отношении Америки — пусть и с минимальной редактурой. Но Америка намного богаче, намного сильнее, что позволило ей в большей степени самортизировать, свести на нет часть того, что совершила холодная война. Правда, далеко не все. Америке еще предстоит справиться с теми ранами, которые эта война нанесла качеству жизни, традициям гуманизма, демократическим ценностям.
Не будь холодной войны, наступила бы эра МакКарти, которая по сей день определяет то, что называется «пределами политических дебатов». Погибли бы тридцать пять тысяч американцев в Корее да еще пятьдесят тысяч во Вьетнаме, не говоря о двух миллионах вьетнамцев? Получили бы американскую поддержку такие мерзкие диктаторы, как Маркос, Франко, Сомоса, Пиночет? Вряд ли.
Когда мы еще жили в Нью-Йорке, президент Труман подписал закон, в преамбуле к которому было сказано, что каждый американец имеет право на приемлемое жилье. Четыре десятилетия спустя есть ощущение, что до реализации этого важнейшего права еще очень и очень далеко. Знаменитая Война с Бедностью, объявленная президентом Линдоном Джонсоном, пала жертвой другой войны — холодной. Грязь и нищета городских трущоб, постепенный развал системы школьного образования, резкий рост наркомании — разве это не противоречит исконным американским представлениям о порядочности? Всего этого не было бы, с этим не мирились бы, если бы не десятилетия военных расходов да принятие обществом истины, что глобальная борьба с коммунизмом важнее удовлетворения жизненных потребностей рядового американца.
Невозможно не прийти к выводу — если, конечно, оценивать справедливо, — что холодная война слишком дорого обошлась и Соединенным Штатам, и Советскому Союзу не только в экономическом плане, но и в моральном.
Я не без тревоги обнаружил немалое сходство между догорбачевским стилем руководства в СССР и тем, который наблюдал в Америке Рейгана. Схожие агрессивность, высокомерие, безграмотность. То, что обе системы сумели выжить до сих пор, несмотря на качество руководства, скорее свидетельство их живучести.
Мы видим и слышим лишь то, что хотим видеть и слышать, фильтруя то, что противоречит нашим убеждениям и взглядам. Когда американские правые попадают в Советский Союз, они повсюду обнаруживают признаки подавления народа тоталитарным режимом. Американские левые находят прямо противоположное. Советские туристы, посещающие Америку с мыслью об эмиграции, видят общество всеобщего благоденствия, другие же — бездомных и нищих. Каждым управляет его предвзятость. И я не исключение. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, насколько подозрительно мое утверждение, будто я приехал в Америку не для того, чтобы найти там подкрепление моим политическим убеждениям. Тем не менее это так. Столкнувшись с бедностью в столь богатой Америке, увидев ужасающую нищету, существующую бок о бок с неслыханной роскошью, я не потираю руки от удовлетворения.
Мое возвращение было сладко-горьким.
Сладость в том, что я вернулся. Вернулся в собственное детство. Стоял у дома номер двадцать четыре по восточной Десятой улице, смотрел на окна второго и третьего этажей и вновь видел, словно отмотав киноленту собственной жизни на сорок лет, всех нас — мать и отца, моего любимого пса Жука, моего маленького брата Павлика, мою обожаемую Джулию — и проживал жизнь столь далекую теперь от меня, будто ее никогда и не было. Сладость также — в звучавшем вокруг меня нью-йоркском говоре, в том, чтобы купить и съесть пару «френков со всеми делами» (так в Нью-Йорке — и только там — называют горячие сосиски, уложенные в белые продолговатые булочки с горчицей, жареным луком, кислой капустой, маринованными огурчиками и еще бог знает с чем), в возможности пробежаться в Центральном парке, притормозив по пути, чтобы послушать двух скрипачей, исполняющих двойной концерт Вивальди; сладость — в посещении бейсбольной игры на Янкистедиум, и в том, чтобы посидеть на ступеньках собора Святого Патрика, а потом, уже на другой стороне Пятой авеню, поглазеть на любителей фигурного катания на искусственном катке «Рокфеллер Плаза». Сладости было хоть отбавляй, не пересказать сколько, и она переполняла сердце до самых краев… Сладость Фултоновского рыбного рынка, от которого несло за версту, но запах которого кружил мне голову сильнее, чем «Опиум», «Пуазон» или «Шанель № 5». Фултоновский рыбный рынок с его орущими чайками, мачтами кораблей, пакгаузами, ресторанчиками, брусчаткой и миллионом других вещей, не значащих ровным счетом ничего ни для кого, кроме человека, который приходил сюда в двенадцать лет, приходил с подаренным ему на день рождения фотоаппаратом фирмы «Кодак» и проводил здесь долгие часы. Здесь, думал он, пришвартовывались пиратские корабли, отсюда уплывали лихие капитаны-китобои — уплывали приключениям навстречу, вдыхая просоленный океанский ветер, и сюда возвращались, оплыв полмира, изящные трехмачтовые шхуны.
Нет, я не приехал в поисках этой сладости. Она была здесь, она меня поджидала. Как поджидала и горечь…
«Копы», попарно патрулирующие Вашингтонский сквер — любимое место нашего детства, где мы самозабвенно играли в «ступ-бол» и никогда не видели ни полицейских, ни наркоторговцев, за которыми они теперь охотились. Молодые люди, стоящие в очереди за креком, о котором и слыхать никто не слыхал в Гринвич-вилладж моего детства. Резкий запах мочи и бездомные, спящие на скамейках в Томкинс-сквере. Опустошенные, горькие лица забытой Америки, Америки, списанной со счетов этикой корпоративного капитализма.
И еще сцена, запомнившаяся навсегда. Я сижу в великолепнейшем зале ожидания Вашингтонского железнодорожного вокзала, откуда первым же поездом должен выехать в Нью-Йорк. Вокзал и в самом деле поразительно красивый, шедевр современной архитектуры. Кроме того, он необыкновенно удобен для всех посетителей и пассажиров (замечу в скобках, что по части создания удобств американцы абсолютные чемпионы мира, ни в одной стране ничего подобного нет), тут есть все — от шикарных бутиков и разнообразных магазинов и ларьков до ресторанов высокой кухни, закусочных и оборудованных компьютерами бизнес-салонов. О туалетах не говорю. Они достойны отдельной главы…
Но в то утро мое внимание было приковано к человеку явно либо пьяному, либо находившемуся под влиянием наркотиков: он шел по залу, хихикая и хохоча, тыча пальцем в сторону чего-то, что было видно ему одному, и как бы приглашал всех принять участие в этом безумно смешном спектакле. Нахохотавшись всласть, он снял пальто, скатал его и, положив под голову, лег на скамейку. Уснул он мгновенно, и его лицо, напоминавшее образы Эль Греко белизной кожи в сочетании с черными усами и острой бородкой, казалось теперь совершенно спокойным и на редкость красивым. Он лежал в странной позе — торс его образовывал почти прямой угол с ногами, которые свисали со скамейки и упирались в пол. И тут к нему направился другой человек — чернокожий американец, тоже из разряда то ли пьяных, то ли наркоманов, то ли сошедших с ума. Высокий, худощавый, он был одет в сильно поношенный, кое-где прохудившийся костюм. Он двигался, размашисто жестикулируя, широко разводя руки и кланяясь невидимой публике, причем двигался все более сужающимися кругами, пока не очутился рядом со спящим человеком. Он сел рядом с ним и чуть толкнул его одним пальцем. Не последовало никакой реакции. Он толкнул его чуть сильнее — с тем же результатом. Тогда он залез спящему в карман, вытащил оттуда смятую пачку сигарет и спички и тут же закурил. Он делал все это, будто совершал театральное действо — широко, с гримасами, словно ожидая аплодисментов. Покурив, он взялся за край пальто, служившего подушкой спящему, и чуть дернул. Тот не шелохнулся. Тогда он дернул посильнее, пальто выскользнуло из-под головы, и она глухо стукнулась о скамейку. Белый продолжал спать. Чернокожий встал, широко развел руками и отвесил глубокий поклон, как бы говоря: «Видите, что я умею?» Потом поднял пальто, скатал его еще туже, сунул под мышку и, ухмыльнувшись, пошел бочком к выходу. Просящий милостыню крадет у нищего — почему-то мне вспомнилось что-то из Брейгеля-старшего.