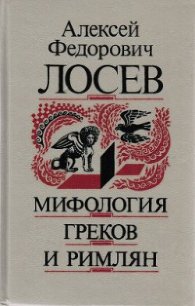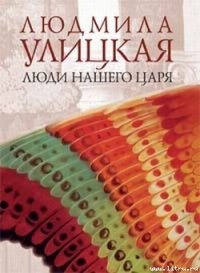Лосев - Тахо-Годи Аза Алибековна (мир книг .txt) 📗
Потом на даче были собаки, потом на даче была домработница Оля… И это тоже эпопея…
Никто и никак не мог меня в том возрасте приучить есть. Да, просто есть то, что едят все. Я отказывалась решительно от всего. Я бегала по дачному участку, держа в руках бутылку с соской. В бутылке был «кихирчик», то есть кефирчик. Вот этот-то «кихирчик» я только и признавала. И вот однажды за общим обедом Ольга Соболькова, которая великолепно готовила и от этого еще больше негодовала на мои застольные капризы, замахнулась после очередного моего отказа на меня половником. Ребенок исчез. Ольга и все присутствующие были в панике. Ольга рыдала, что убила младенца. Но вскоре «обеденная жертва» была извлечена из-под стола, куда она предусмотрительно сползла, когда карающий половник еще только заносился. Мрачно обозрев поле битвы, малютка произнесла исторические слова: «Ах ты Олька Собольковка». Это была наивысшая степень негодования, которое я испытала тогда впервые по отношению к своей мучительнице. Я считала себя вдвойне оскорбленной, потому что, во-первых, есть или не есть – это было мое личное дело, а во-вторых, мы с Олей дружили, вместе пели «Ромашки спрятались, поникли лютики… Зачем вы, девушки, красивых любите, / Одни страдания от той любви». А обида от человека «духовно близкого» всегда особенно остра.
Но обычно дело не доходило до рукопашного боя. Обычно меня сажали за стол на веранде, а «Гиган» уходил сражаться со злыми волшебниками: в соседней комнате раздавался страшный грохот и завывание. Надо было все же что-нибудь успеть съесть, чтобы чудовище не смогло победить «Гигана». Иногда в стеклянной двери, отделяющей веранду от внутренних комнат, являлось «оно». Это «оно» больше походило на медведя, но рассматривать подробности было выше моих сил. Тут съешь что угодно, когда рядом такое чудище! То, что это был все тот же «Гиган», специально надевший маску медведя и какой-то плед, я в те дни не подозревала.
Да и вообще у нас с «Гиганом» были разные интересы и заботы. К нему приходили и в тот год, да и потом, когда я бывала там снова и снова, какие-то дяди. Дяди назывались «секретарями». Честно признаться, долгое время они были для меня почти неотличимы друг от друга. Да и имя у них у всех было одно – «секретарь». Дяди пили кофе, брали какие-то бумаги и уходили вместе с «Гиганом» «под клены» заниматься. И «Гиган» сидел там, «под кленами», в кресле-качалке и что-то говорил, а они что-то писали. Постепенно лица этих «секретарей» стали как-то проявляться в моем сознании с течением времени, но, конечно, не тогда, когда мне было два, а несколько позже. Человек лысоватый, в очках – Бибихин, человек в очках и с черной бородой – Шичалин, человек в очках и с белой бородкой – Столяров. Когда они появились как отдельные самостоятельные личности, когда обрели свои имена в моем сознании – в пять, шесть, девять лет, – это я уже не помню. А в тот, теперь такой далекий 1969 год, может быть, еще никого из них и не было среди тех «секретарей», но для меня тогда было это малосущественно. Меня интересовало другое: кресло-качалка, на которой сидел «Гиган» и на которое можно было забраться сзади и качаться, как на качелях.
И долгие-долгие годы все так и было. Впечатления и мелочи добавлялись, множились, но у каждого из нас была совершенно своя самостоятельная жизнь.
Нет, конечно, и в дни моего детства мы встречались и говорили, но все это было как-то не так. Ну как можно разговаривать с этим огромным человеком в темном, серовато-черном костюме с галстуком, в черной шелковой шапочке и круглых очках, когда ты приходишь к нему как взрослый человек (тебе, может быть, уже и пять лет – кто сейчас точно вспомнит, сколько?) к взрослому человеку и совершенно как взрослый человек говоришь то, что тебе велели мама и тетка спросить: «Алексей Федорович, вам что-нибудь нужно?» – и тебе в ответ говорят «да» и ты замираешь; «наконец-то ему что-то нужно, сейчас я…» и в этот момент, когда ты готова осчастливить все человечество, тебя словно обливают холодной водой слова: «Почитай-ка мне „Дочь падишаха“!» Ну что тут будешь делать?! Остается только с воплем: «Хитренькие вы какие!» – бросаться наутек, чтобы спастись от этой мерзкой, ужасной, занудной книжки.
Нет, все же гораздо приятнее жить без «Дочери падишаха»! Просто сидеть за длинным массивным столом на ярко освещенной теплым летним солнышком веранде; смотреть, как Он заправляет за воротник привычным движением белую с синими полосками салфетку, как мешает серебряной ложечкой розоватую ряженку в голубой гжельской чашке; есть вместе «сено» – горячую рассыпающуюся картошку с помидорами и огурцами, посыпанными тонкими колечками лука и политыми подсолнечным маслом; бежать по аллее «под клены», прижимая к себе блюдце с фруктами, которые «Алеша» будет есть часов в пять, перед обедом. И вообще хорошо жить на этой даче, в двухэтажном деревянном зеленом доме среди золотисто-розовых сосен и золотого песка, сниматься вместе с Алешей, мамой, Бабой, дядей Сашей Спиркиным на фотографии, когда вдруг приезжают с фотоаппаратом Миша Овсянников и Вася Соколов (так их все называют, и ты не думаешь еще, что у них есть отчества). И пусть тебе в это время уже не два года и ты уже давно не носишь под качалку «Гигана» (самое надежное место) «сусыть» (сушить) свои мокрые туфельки, пусть тебе уже семь лет и на дворе уже 1974 год, но ты еще тот же двухлетний ребенок, ты устраиваешь живую кариатиду, залезая на выступ под балконом, и думаешь, что всё и всегда будет точно так же: и лето, и 74-й год, и те, кто фотографируется, и те, кто фотографирует, и ты сама, и эта дача, которую ты тогда считаешь своей и иногда с недоумением задумываешься, почему это тут живут дядя Саша Спиркин с тетей Майей?.. Ну да ладно, к ним все так привыкли, пусть живут… И ты бы очень удивилась, ты бы ни за что на свете не поверила тогда, если бы тебе кто-нибудь сказал, что наступит время и не только эта дача окажется вовсе не твоей, но и все изменится и многое навсегда безвозвратно отойдет в прошлое. И лето, и твои две тугие косички, и дача, и те, кто снимает, и те, кто снимается…
Что осталось теперь мне от того времени: фотографии, стихи, ибо какой Лосев без стихов…
Чтобы это не казалось странным, вот шутливое послание Лосева к моей маме, записанное нашим старым другом Володей Ждановым под диктовку. Послание это было сочинено как раз в Отдыхе, на даче, летом и лучше всего передаст атмосферу той весело играющей жизни:
«Мина, femina in scientiis doctissima, in rebus domesticis peritissima, in hominum relationibus diplomatissima, sapientissima, suasisissima, prudentissima, dulcissimaque!
Присланная тобою кепка прозвучала как поцелуй младенца. Она легкая вплоть до невесомости. Она – простая вплоть до умозрительности. Она – невинная и шаловливая, как игривый кутенок. И она – мудрая вплоть до структурного изоморфизма с моей головой. Но твои поцелуи все-таки сильно отличаются от кепки – глубинно изысканной роскошью твоих трансцендентально-недоступных, изивных и манящих прохлад, неизбывно тоскливыми зигзагами твоих безотчетных откровений, всегда теплых и простых, всегда уязвляющих и непонятных, твоей вертлявой дипломатией, всегда наивной, всегда прозрачной. И все-таки кепка твоя хороша уже тем одним, что в ней соединяется и шапка Мономаха и детский бумажный колпачок. Конечно, тут требовалось от меня послать тебе свое вежливое «спасибо» и свою учтивую благодарность, как этого требует ваша буржуазная мораль. Но я рожден не буржуем, а, наоборот, рожден эпатировать буржуазию, поэтому я всегда либо разоблачал буржуазную мораль с ее кухонно-служебным благополучием, либо подхалимствовал ей, но удивительным образом это мое подхалимство почему-то всегда принималось как издевательство. Поэтому я шлю тебе не благодарность за кепку, а сравнение ее с поцелуем младенца. А уж нравственно это или безнравственно, это, дорогие мои буржуи, определяйте сами. И вообще для буржуазной морали я слишком хулиган, и меня всегда какая-то невидимая сила подмывает издеваться над вашим буржуазным благополучием. И, кроме того, хотя я мужик себе на уме, но люблю срывать покровы и лезть с ногами в тайны ваших буржуазных секретов.