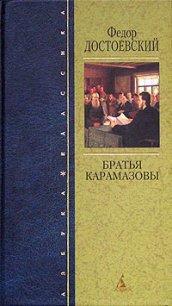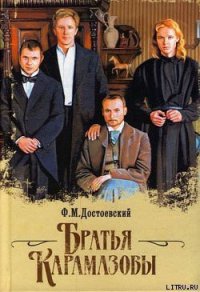Толстой и Достоевский. Братья по совести (СИ) - Ремизов Виталий Борисович (книги хорошего качества .txt, .fb2) 📗
«Взгляд Левина, впрочем, вовсе не нов и не оригинален. Он слишком бы пригодился и пришелся по вкусу многим, почти так же думавшим людям прошлого зимой у нас в Петербурге и людям далеко не последним по общественному положению, а потому и жаль, что книжка несколько запоздала» (XXV, 194).
Кого имеет в виду Достоевский? Откуда такая одобрительность неучастия верхов в словах Левина и князя Щербацкого? Почему так небрежительно Толстой в неопубликованном Эпилоге говорит о «жирных сербах» (напомню: «этих-то жирных в угнетении Сербов шли спасать худые и голые русские мужики. И для этих жирных Сербов отбирали копейки под предлогом Божьего дела у голодных русских людей»)?
В июле 1876 г., когда еще не была начата работа над финальной частью романа, Толстой проявил особый интерес к событиям сербско-турецкой войны, начавшейся с восстания в Герцеговине. Ему трудно верилось в серьезность события, и он даже выразил сомнение в его «существовании» (см. письмо А. Фету от 21 июля 1878 г.; 62, 280).
События на Балканах развивались быстро и не в пользу Сербии, которая терпела одно поражение за другим, и к концу лета трагическая ситуация стала особенно ощутимой. По возращении в двадцатых числах сентября из Самары и Оренбурга Толстой писал А. Фету:
«Поездка моя была очень интересна — отдохнул от всей этой сербской бессмыслицы; но теперь опять только и слышу и не могу даже сказать, что ничего не понимаю, — понимаю, что всё это слабо и глупо» (62, 287).
Отдых «от всей этой сербской бессмыслицы» свидетельствует о том, что Толстой изначально принял близко к сердцу все происходящее в Сербии, но изначально он понимал и другое: невозможность победы не обученных военному делу сербов над турками, которые с детства обучались «науке убивать». Отсюда оценка происходящего — «все это слабо и глупо». Кроме того, информации о событиях в Сербии было немного, да и та была разноречивой.
Претила Толстому и деятельность Славянских комитетов России по набору добровольцев для сербско-турецкой войны. Претила, может быть, потому, что Толстого всегда раздражала «шумиха» в общественной жизни и что ему были хорошо знакомы последствия экзальтации масс народа (смерть Верещагина в «Войне и мире»). Один из комитетов, возглавляемый Иваном Аксаковым, активно поддерживал всеславянское движение, критически относился к официальной внешней политике России, а в период восточного кризиса 1870-х гг. стремился действовать независимо от правительства, т. е. вопреки государственным установкам. Возможно, что на отрицательном восприятии Толстым деятельности славянского комитета сказалось ревностное чувство к его Главе — Ивану Аксакову, мужу Анны Федоровны Тютчевой, дочери поэта, с которой у Толстого в молодости были довольно сложные отношения.
«Ездил я в Москву узнавать про войну, — писал Толстой А. Фету. — Всё это волнует меня очень. Хорошо тем, которым всё это ясно; но мне страшно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тех условий, при которых совершается история, как дама, какая-нибудь Аксакова, с своим мизерным тщеславием и фальшивым сочувствием к чему-то неопределенному, оказывается нужным винтиком во всей машине» (62, 288).
История — игрушка в руках судьбы, случайность, а отношение к русским добровольцам построено на «фальшивом сочувствие к чему-то неопределенному».
Однако все вышесказанное — это только предположение. Мотивы остаются до конца непроясненными.
В романе более осязаемой, чем в предшествующих художественных произведениях Толстого, стала идея «непротивления злу», пока употребляемая без знаменитого дополнения «насилием».
Не воевать надо людям друг с другом, а совместно обустраивать мирную жизнь — такова воля народа, в России — воля крестьян и рабочего люда. Война несет с собой зло, хаос, разъединение людей. Таков пафос оценки войны, восприятие же Толстым хода военных событий часто не совпадало с этой оценкой.
Непротивление злу (далеко не синоним понятию пассивность) «заявило» о себе уже в «Войне и мире» — в мыслях и поведении Платона Каратаева. Звучит она и в «Анне Карениной».
Кознышев предлагает Левину решить конкретную ситуацию, в которой жестокость зашкаливает. Он говорит:
«Тут нет объявления войны, а просто выражение человеческого, христианского чувства. Убивают братьев, единокровных и единоверцев. Ну, положим, даже не братьев, не единоверцев, а просто детей, женщин, стариков; чувство возмущается, и русские люди бегут, чтобы помочь прекратить эти ужасы. Представь себе, что ты бы шел по улице и увидал бы, что пьяные бьют женщину или ребенка; я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человеку, а ты бы бросился на него и защитил бы обижаемого?» (19, 387–388).
Следует рассудочный ответ: «Но не убил бы», — сказал Левин.
За ним — менее рассудочное утверждение Кознышева: «Нет, ты бы убил».
И далее искреннее признание героя в невозможности логическим путем решить эту ситуацию: «Я не знаю. Если бы я увидал это, я бы отдался своему чувству непосредственному; но вперед сказать я не могу» (19, 388).
Такого рода герой, утверждающий право на свою точку зрения, но в экстремальных ситуациях принимающий иное решение или не принимающий вообще никакого решения, есть и в «Войне и мире». Это Николай Ростов. Он тоже, как и Левин, близок писателю по духу. Он активен и решителен в мечтаниях, но непредсказуем на поприще их реализации. Ему присуща нерешительность в действиях. Ростов чужд рефлексии, Левин одержим ею, и потому для него ситуация выбора становится еще более непредсказуемой, отсюда и прямой ответ: «Я не знаю».
В художественном мире Толстого сюжетно оформленные ситуации непредсказуемости встречаются часто — от слабостей Отца Сергия до «Простите!» Катюши Масловой, любившей Нехлюдова, но остановившей свой выбор на Симонсоне. Художник оказывался выше идеологических установок. Искусство поистине есть «опыт в лаборатории» (Л. Толстой).
Достоевский в штыки принял антиславянские настроения Левина. Он не сомневался в том, что России суждена особая благородная миссия в общеславянском движении и что, если потребуются жертвы для ее исполнения, их надо принести, а если потребуется насилие, то и оно имеет право на жизнь.
Однако надо помнить, что раздумья Достоевского протекали в форме публицистических откровений («Дневник писателя»), и не факт, что при художественном воплощении проблемы писатель мыслил бы теми же категориями.
Толстого всегда традиционно относят к лагерю людей, противостоящих государственной политике царского правительства. Однако, как показывает текст романа и публицистические рассуждения в ненапечатанном Эпилоге, Толстой в годы написания «Анны Карениной», при всей критике современной ему действительности, был государственником в вопросах внешней политики России.
Важно и другое: испытывая неприязненное отношение к общественной жизни России с ее извечной борьбой между славянофилами и западниками, консерваторами и либералами, он оставался над схваткой враждующих лагерей, чувствовал себя абсолютно свободным в принятии решений и никогда не ставил себя в зависимость от общественного мнения. Оставаться всегда самим собой, быть верным провозглашенному еще в молодости принципу: «Герцен сам по себе, а я сам по себе», — такова жизненная установка писателя. Он был свободно мыслящей личностью. И никакие катковы, страховы, аксаковы, михайловские, соловьевы, чичерины не могли лишить его собственного мнения.
«Сами по себе» предстают в произведениях Толстого и его герои. Анна, как и Татьяна Пушкина, бог знает что вытворяет в романе. По своей художественной орбите движется Левин. У героя свое небо и своя судьба. Он говорит то, что думает. Крепка ли его мысль и насколько она нам близка — это уже проблемы читательского восприятия образа и социальных привязанностей.