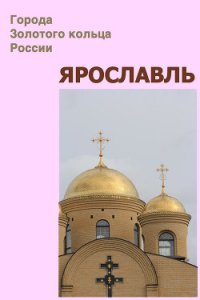Великий Рузвельт - Мальков Виктор Леонидович (книга регистрации TXT) 📗
Рузвельт помедлил немного. Из «запасников» памяти всплыло высказывание Джефферсона о миссии науки быть посредником в устранении международных конфликтов. Следующий абзац речи звучал отголоском бесед с Франкфуртером и Бором: «Сегодня мы сталкиваемся с основополагающим фактом, суть которого состоит в том, что если цивилизации суждено выжить, то мы для этого должны культивировать науку человеческих отношений – способность всех людей, какими бы разными они ни были, жить вместе и трудиться вместе на одной планете в условиях мира.
Разрешите мне заверить вас, что моя рука тверда для работы, которую предстоит сделать, что я тверд в своей решимости выполнить ее, зная, что вы – миллионы и миллионы людей – присоединитесь ко мне для осуществления этой работы.
Эта работа, друзья мои, делается ради мира на земле. Конец этой войны будет означать конец всем попыткам развязать новые войны, бессмысленному способу решения разногласий между правительствами путем массового уничтожения людей. Сегодня, когда мы ополчились против этого ужасного бедствия – войны и создаем условия для прочного мира, я прошу вас сохранять веру в успех. Я измеряю меру достижений на этом пути вашей преданностью делу и вашей решимостью. И всем вам, всем американцам, которые посвящают себя вместе с нами работе во имя прочного мира, я говорю: «Единственной преградой для приближения этого завтрашнего дня будут только наши сомнения в отношении дня сегодняшнего. Так давайте же пойдем вперед во всеоружии сильной и активной веры» {169}.
Перечитав текст и вписав от руки последнюю фразу, Рузвельт уже знал, что он ответит Сталину. Отброшены были все варианты, в которых сквозил хотя бы намек на желание продолжить «выяснение отношений». Около полудня того же 11 апреля Рузвельт передал Хассету для отправки в Москву собственноручно написанный им текст телеграммы Сталину. Он был лаконичен: «Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы. Во всяком случае, не должно быть взаимного недоверия и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся» {170}.
Телеграмма была послана 12 апреля из Белого дома в Москву Гарриману и одновременно в Лондон Черчиллю. Связь работала бесперебойно. Через короткий промежуток времени, в тот же день, пришла шифровка от Гарримана с предложением опустить слово «незначительные». Президент ответил без промедления и в тоне, не терпящем возражений: «Я против того, чтобы вычеркнуть слово «незначительные», потому что я считаю бернское недоразумение незначительным инцидентом» {171}.
Это были последние послания и распоряжения Рузвельта.
11 апреля неожиданно оказалось насыщенным событиями. Помимо чтения прибывших с почтой деловых бумаг, обдумывания речи по случаю Дня памяти Джефферсона и подготовки дипломатических депеш он был заполнен до отказа «мелочами», каждая из которых была важна сама по себе. Непростым делом было утрясти с пресс-секретарем Хассетом рабочий календарь до конца апреля (президент предполагал уехать из Уорм-Спрингса в среду, 18 апреля, пробыть день в Вашингтоне, а затем отправиться поездом в Сан-Франциско). На утро следующего дня Рузвельт назначил стенографирование своей речи перед участниками учредительной конференции Организации Объединенных Наций. После полудня Рузвельт совершил прогулку на автомобиле в обществе Люси Рузерфуд и Маргарет (Дейси) Сакли. Вечером в малом Белом доме появился министр финансов Генри Моргентау, занявший президента трудным разговором о будущем Германии. Внезапно оборвав беседу в том месте, где Моргентау вернул его к плану расчленения Германии, президент перевел ее в иное русло, в область воспоминаний и смешных историй о Черчилле. Расставаясь, Рузвельт дружески извинился за краткость их беседы, сославшись на предстоящие завтра встречи. Ему хотелось выспаться перед тем, как утром следующего дня его разбудят секретари с всегдашней порцией утренней почты.
12 апреля началось, как обычно, чтением газет. Они сообщали о взятии Вены русскими и о боях войск маршала Г.К. Жукова в 40 милях от Берлина, о добровольной сдаче в плен сотен тысяч германских солдат на Западном фронте и о боях англо-американцев в окрестностях Болоньи. Затем сеанс с художницей Шуматовой, заканчивавшей портрет президента. Все время сохранять неподвижную позу было делом утомительным. В короткие промежутки Рузвельт подписывал деловые бумаги и перебрасывался двумя-тремя словами с окружающими. Все восприняли как шутку его реплику о желании подать в отставку с поста президента. Вопрос присутствовавшей тут же его кузины Лауры Делано: «Вы это серьезно? И что же вы будете делать?» – не застал его врасплох. «Я бы хотел возглавить Организацию Объединенных Наций», – ответил Рузвельт.
Где-то сразу после 1 часа дня 12 апреля 1945 г. он внезапно почувствовал «ужасную головную боль», а затем потерял сознание. Попытки окружающих и в их числе Дейси Сакли и Люси Рузерфурд, а также д-ра Брюна привести его в чувство ничего не дали. В 3 часа 45 минут президент США умер от обширного кровоизлияния в мозг. Уход из жизни Рузвельта накануне исторических событий решающего значения был воспринят как тяжелая утрата, прежде всего для трудного дела выработки новой философии безопасности в условиях действия уже проявившихся, но еще не осознанных никем глобальных факторов развития – социально-экономических, геополитических, национальных, военных, научно-технических.
Рузвельт был одним из тех немногих политиков, кто шел ощупью к постижению драматически проявивших себя тенденций в условиях возникшей напряженности, сложившейся в межсоюзнических отношениях в финальной фазе войны, быстрого размывания привычных стереотипов и появления различных проектов социально-экономического бескризисного развития человеческого сообщества {172}. Понимание реальности безвозвратно ушедшей эпохи элитарной, классово-сословной политики проявилось в его джефферсонианизме, в особой чувствительности к миру «простого человека», миру «одинокой толпы». Панорама нового мира в его техногенном измерении также занимала существенное место в его «основополагающих предположениях» о будущем. Он не скрывал, что видит решение вопроса в интернационализации «нового курса».
То, что внес Франклин Рузвельт как государственный деятель и дипломат в летопись американской истории (имея в виду ее практический и идеологический аспекты), обеспечило ему особое место рядом с Вашингтоном, Джефферсоном и Линкольном. О роли же Рузвельта в восстановлении позитивной традиции в русско-американских отношениях было сказано Гарри Гопкинсом сразу же после капитуляции Германии. «Рузвельт… – говорил он на встрече с советскими руководителями в Москве 26 мая 1945 г., – не упускал из виду того факта, что экономические и географические интересы Советского Союза и Соединенных Штатов не сталкиваются. Казалось, что обе страны прочно стали на путь, и он, Гопкинс, уверен, что Рузвельт был в этом убежден, который ведет к разрешению многих трудных и сложных проблем, касающихся наших обеих стран и остального мира. Шла ли речь о том, как поступить с Германией или с Японией, или о конкретных интересах обеих стран на Дальнем Востоке, или о международной организации безопасности, или, и это не в последнюю очередь, о длительных взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Советским Союзом – Рузвельт был убежден, что все эти вопросы могут быть разрешены и что в этом его поддержит американский народ» {173}. Гопкинс, разумеется, тогда не мог говорить об этом вслух, но, по-видимому, в «эти вопросы» входила и атомная проблема.
Вместо заключения
«Не великий человек, но без сомнения великий президент»
Читая новости из США, можно подумать, что Франклин Рузвельт и его «новый курс» переживают вторую реинкарнацию. В очередной раз сказалась закономерность, называемая иронией истории. Наследие эпохи «штормовых» предвоенных 30-х годов ХХ века с ее героями и антигероями, экономическим коллапсом на Западе и советскими пятилетками вошло в историческую память многих поколений американцев как эпоха Великой депрессии и сегодня внезапно стало частью повседневности, предметом всегдашних тревог и раздумий.