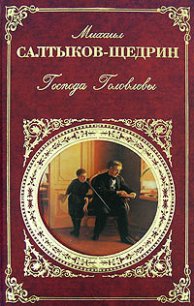Салтыков-Щедрин - Тюнькин Константин Иванович (читать книги бесплатно полностью без регистрации .txt) 📗
Наш Ташкент, о котором мы ведем здесь речь, находится там, где дерутся и бьют», где каждую минуту можно услышать сакраментальное словечко «фюить!» (эзопово обозначение политической ссылки).
В сущности, это тот же город Глупов, но «усовершенствованный» новым хищничеством — не крепостнически-патриархальным, а буржуазно-нахрапистым.
Больше того, Ташкент существует и за границей. Что такое наполеоновская Франция периода Второй империи, как не тот же Ташкент?
Ташкент жрет, Ташкент колотит по зубам, Ташкент торжествует!
И это торжество следующих один за другим Ташкентов поистине удручающе.
Приступая к изображению Ташкента современного, Салтыков с тревогой смотрит в будущее. Он был бы рад сказать: «Читатель! смотри, вот издыхающий Ташкент!» Но нет у него в запасе этого утешения. Ташкент заразил собой, своим зубодробительством и насилием, не только ниву настоящего, но и ниву столь желанного будущего. «Я вижу людей, работающих в пользу идей несомненно скверных и опасных и сопровождающих свою работу возгласом: «Пади! задавлю!» и вижу людей, работающих в пользу идей справедливых и полезных, но тоже сопровождающих свою работу возгласом: «Пади! задавлю!» Я не вижу рамок, тех драгоценных рамок, в которых хорошее могло бы упразднять дурное без заушений, без возгласов, обещающих задавить». Неужели насилие никогда не прекратит действия своего? «Этот порочный круг не может не огорчать. Когда видишь такое общественное положение, в котором один Ташкент упраздняется только по милости возникновения другого Ташкента, то сердце невольно сжимается и делается вещуном чего-то недоброго». Длинный ряд Ташкентов, следующих один за другим, чем эта мрачная картина лучше истории города Глупова — лишь с прибавлением так называемых благ цивилизации?
Начиная свою галерею «ташкентцев», Салтыков хочет определить жанр своего нового произведения. Он задумывает роман, но роман совершенно нового типа.
Старый, привычный, складывавшийся на протяжении XVIII и XIX веков европейский «роман утратил свою прежнюю почву с тех пор, как семейственность и все, что принадлежит к ней, начинает изменять свой характер. Роман (по крайней мере, в том виде, каким он являлся до сих пор) есть по преимуществу произведение семейственности. Драма его зачинается в семействе, не выходит оттуда и там же заканчивается. В положительном смысле (роман английский <прежде всего, конечно, роман Диккенса>) или в отрицательном (роман французский <Бальзак, Жорж Санд>), но семейство всегда играет в романе первую роль.
Этот теплый, уютный, хорошо обозначившийся элемент, который давал содержание роману, улетучивается на глазах у всех, — продолжает Салтыков свою характеристику сложившегося европейского романа. — Драма начинает требовать других мотивов: она зарождается где-то в пространстве и там кончается. Покуда это пространство не освещено, все в нем будет казаться и холодно, и бесприютно. Перспектив не видно; драма кажется отданною в жертву случайности. Того пришибло, тот умер с голоду — разве такое разрешение может быть названо разрешением? Конечно, может; и мы не признаем его таковым единственно потому, что оно предлагается нам обрубленное, обнаженное от тех предшествующих звеньев, в которых собственно и заключалась никем не замеченная драма. Но эта драма существовала несомненно и заключала в себе образцы борьбы гораздо более замечательной, нежели та, которую представлял нам прежний роман. Борьба за неудовлетворенное самолюбие, борьба за оскорбленное и униженное человечество, наконец, борьба за существование — все это такие мотивы, которые имеют полное право на разрешение посредством смерти». Салтыков с иронией пересказывает суть любовной драмы, вокруг которой строился прежний, семейственный роман: «Ведь умирал же человек из-за того, что его милая поцеловала своего милого, и никто не находил диким, что эта смерть называлась разрешением драмы. Почему? — а потому именно, что этому разрешению предшествовал самый процесс целования, то есть драма». Значительность такой драме придавало, в сущности, только то обстоятельство, что совершалась она на многократно «освещенном» пространстве. Но человек «определяется» не только своими любовными или семейственными отношениями. «Тем с большим основанием позволительно думать, что и другие, отнюдь не менее сложные определения человека тоже могут дать содержание для драмы весьма обстоятельной. Если ими до сих пор пользуются недостаточно и неуверенно, то это потому только, что арена, на которой происходит борьба их, слишком скудно освещена. Но она есть, она существует, и даже очень настоятельно стучится в двери литературы». Салтыков ссылается на «величайшего из русских художников, Гоголя, который давно провидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности». Действительно, и Салтыков это прекрасно помнил, Гоголь в сцене «Театральный разъезд после представления новой комедии» поручил одному из персонажей этой сцены высказать свою задушевную мысль о драматическом характере многоразличных человеческих «определений», помимо любовного: «Да, если принимать завязку в том смысле, как ее обыкновенно принимают, то есть в смысле любовной интриги, так ее точно нет <вкомедии «Ревизор»>. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сих пор на эту вечную завязку. Стоит вглядеться пристально вокруг. Все изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить во что бы ни стало другого, отмстить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?» Гоголь «провидел» то, что Салтыков со всей ясностью уже видел и осуществлял своим творчеством, что было велением времени, создававшего новую литературу.
«Роман современного человека, — продолжает свои размышления Салтыков, — разрешается на улице, в публичном месте — везде, только не дома; и притом разрешается самым разнообразным, почти непредвиденным образом. Вы видите: драма начиналась среди уютной обстановки семейства, а кончилась бог знает где; началась поцелуями двух любящих сердец, а кончилась получением прекрасного места, Сибирью и т. п. Эти резкие перерывы и переходы кажутся нам неожиданными, но между тем в них, несомненно, есть своя строгая последовательность, только усложнившаяся множеством разного рода мотивов, которые и до сих пор еще ускользают от нашего внимания или неправильно признаются нами недраматическими. Проследить эту неожиданность так, чтоб она перестала быть неожиданностью, — вот, по моему мнению, задача, которая предстоит гениальному писателю, имеющему создать новый роман».
Не вспоминал ли через несколько лет эти слова Салтыкова о насущной необходимости общественного романа, осваивающего еще не открытые, скрывающиеся в темноте «пространства» русской действительности, не вспоминал ли их Достоевский, писавший в «Дневнике писателя», «что огромная часть русского строя жизни осталась вовсе без наблюдения и без историка. По крайней мере ясно, что жизнь средне-высшего нашего дворянского круга, столь ярко описанная нашими беллетристами, есть уже слишком ничтожный и обособленный уголок русской жизни. Кто ж будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных? И если в этом хаосе, в котором давно уже, но теперь особенно, пребывает общественная жизнь, и нельзя отыскать еще нормального закона и руководящей нити даже, может быть, и шекспировских размеров художнику, то, по крайней мере, кто же осветит хотя бы часть этого хаоса и хотя бы и не мечтая о руководящей нити? Главное, как будто всем еще вовсе не до того, что это как бы еще рано для самых великих наших художников».
Для Салтыкова «это», конечно, было не рано. Он явился одним из первых великих русских художников, кто безбоязненно вошел в эти темные, неисследованные, исполненные хаоса и социальной неразберихи пространства и сделал в них открытия необыкновенной общественной и художественной ценности. Правда, пока что в своем разъяснении особенностей нового романа он не признает еще себя в силах создать этот новый роман, но он ясно понимает задачу и поэтому хочет выступить как собиратель материалов, разъяснитель некоторых типов, которые служат воплощением настоящего «положения вещей». «Понять и разъяснить эти типы — значит понять и разъяснить типические черты самого положения, которое ими не только не заслоняется, но, напротив того, с их помощью делается более наглядным и рельефным. И мне кажется, что такого рода разъяснительная работа хотя и не представляет условий совершенной цельности, но может внести в общую сокровищницу общественной физиологии материал довольно ценный». Именно под таким углом зрения и разъясняет Салтыков тип «ташкентца».