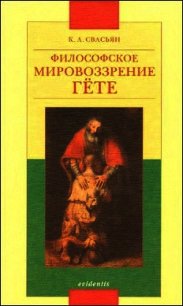Гёте - Свасьян Карен Араевич (читать полностью бесплатно хорошие книги .txt) 📗
Здесь сказано все; в четырех словах — податливость при большой воле — удалось Гёте найти яснейшую формулу своей «карьеры в невозможном». Он еще раз повторит эту формулу на самом исходе жизни, в письме к В. фон Гумбольдту, написанном за 5 дней до смерти и тем самым как бы подводящем итоговый смысл всей жизни: «Высший гений — это тот, кто все впитывает в себя, все способен усвоить, не нанося при этом никакого ущерба своему действительному, основному назначению, тому, что называют характером, вернее, только таким путем могущий возвысить его и максимально развить свое дарование.» (9, 49(4), 282). Это дарование, сказано в том же письме, «повергнет мир в изумление». Гёте, рожденный, по его словам, для изумления («Zum Erstaunen bin ich da»), считавший изумление органом восприятия и, с другой стороны, профессиональной обязанностью человека, продемонстрировал, воплотил еще одну ослепительно открытую тайну, гласящую, что изумление — это бумеранг, как бумеранг и глухое равнодушие, и что мир сторицей возвращает человеку и то и другое. Одному он изумляется, другому предстает глухим и безразличным. По плодам узнаются оба.
«Воробушек» в мгновение ока сбрасывает свое «инкогнито». «Он являет нам, господа человеки, — гремит уже из нашего века Поль Валери, — одну из лучших наших попыток уподобиться богам» (61, 534). Метафора, скажут иные. Может быть. Но пусть подумают они о том, какой невозможный, сверхнапряженный смысл пылает в этой метафоре, и пусть попытаются подобрать для него другое, неметафорическое, но адекватное ему выражение. Как бы ни было, «возможность Канта — Ньютона» встретила могучий отпор. Весь фокус ситуации заключается в том, что отпора-то в прямом смысле и не было; было сплошное созидание, которое, между прочим, и само по себе стало отпором. Вдвойне удивительным оказалось то, что исключение из правила, т. е. невозможное, возвело себя в ранг нового правила. Эпоха была названа именем Гёте, Goethezeit. Сбылся дерзкий парадокс Фауста: «это невозможно и именно поэтому достоверно». Но ведь к этому и сводилась гётевская дефиниция человека: человек, по Гёте, — это тот, кто «способен на невозможное» (vermag das Unmogliche). Продолжения нет, но продолжение продиктовано самой жизнью: или он — гомункул, жуткое наваждение генной инженерии, загнавшее природу в лабораторный застенок и покинутое природой, — «бесполезная страсть», как отозвался о нем один из современных западных философов (52, 708).
Путь Фауста — «с горних высот через жизнь в преисподнюю». «Человеку, — говорит Гёте, — надлежит быть снова руинизированным!» (3, 569). Случай гомункула иной; здесь все решается случайной небрежностью эксперимента:
Глава IV. ФИЛОСОФ ПОНЕВОЛЕ
В Йене 14 июля 1794 г. состоялось знакомство Гёте с Шиллером. Судьба свела их на одном из заседаний Йенского общества естествоиспытателей, где им пришлось заслушать доклад некоего Батша по вопросам исследования природы или, как сказали бы сейчас, научной методологии. Доклад был выдержан в духе строгих тенденций математического естествознания, в частности основополагающей тенденции механистического способа объяснения. Гёте, который реагировал на подобный тип мышления ощущением почти физической боли, признался в этом Шиллеру и, к радости своей, обнаружил полное согласие и поддержку. Но возник вопрос: что именно в позитивном смысле можно было бы противопоставить такому способу рассмотрения природы? Ведь одной критикой не решишь еще самой проблемы. Реплики Шиллера попали в точку; он коснулся наиболее значительной черты гётевского характера вообще: избегать всего непродуктивного и мыслить — мы слышали уже — «ни полемически, ни примиренчески, но позитивно и индивидуально». Ответ воспоследовал без промедления.
Подготовленность Гёте к ответу была безукоризненной. Восемь лет назад, в 1786 году, он уже открыл межчелюстную кость у человека, а спустя четыре года издал «Метаморфоз растений». Суть сводилась к тому, чтобы рассматривать природу не разрозненно и раскромсанной на части, а в живой целостности ее проявлений. Шиллер потребовал разъяснений этой мысли.
«Мы дошли до его дома, разговор завлек меня к нему; тут я увлеченно изложил ему метаморфоз растений и немногими характеристичными штрихами пером воссоздал перед его глазами символическое растение. Он слушал все это и смотрел с большим участием, с решительной силой понимания; но когда я кончил, покачал головой и сказал: „Это не опыт, это идея“. Я смутился, несколько раздосадованный, ибо пункт, разделявший нас, был тем самым обозначен самым точным образом. Снова вспомнилось утверждение из статьи „О грации и достоинстве“, старый гнев собирался вскипеть, однако я сдержался и ответил: „Мне может быть только приятно, что я имею идеи, не зная этого, и даже вижу их глазами“. Шиллер… возразил на это как образованный кантианец, и когда мой закоренелый реализм дал не один повод для оживленных противоречий, то после долгих сражений было объявлено перемирие; никто из нас не мог считать себя победителем, оба считали себя непобедимыми. Положения вроде следующего делали меня совершенно несчастным: „Как может когда-либо быть дан опыт, сообразный идее? Ибо в том именно и состоит своеобразие последней, что с ней никогда не может совпасть опыт“. Если он принимал за идею то, что я считал опытом, то должно же было между ними иметь место нечто посредствующее, связующее!» (7, 1, 111–112).
Мы запомним этот разговор; в нем с исключительной отчетливостью запечатлен конфликт Гёте с господствующими философскими тенденциями Нового времени. Рискнем сказать большее: если бы позволительно было применять к истории философских воззрений метод работы палеонтолога, восстанавливающего по одной косточке цельный образ живого существа, то по одному этому обмену репликами — «Это не опыт, это идея» и «Значит, я вижу идеи» — можно было бы последовательно охватить едва ли не всю историю европейской философии, от досократиков до наших дней.
Гёте никогда не считал себя философом. «Для философии в собственном смысле, — признается он, — у меня не было органа» (7, 2, 26). Но отношение его к ней всегда граничило с сильной неприязнью, от которой он никак не мог избавиться при малейшем соприкосновении с отвлеченным мышлением. «В каждом адепте опыта… — поясняет он, — я допускаю своего рода опасливость по отношению к философии, в особенности, когда она проявляется так, как в настоящее время; но эта опасливость не должна вырождаться в отвращение, а должна разрешаться в спокойную и осторожную склонность» (9, 15(4), 281). С большей дипломатичностью и нельзя было выразиться, если учесть, что самому Гёте эта спокойная и осторожная склонность удавалась далеко не всегда и, как правило, с большим трудом. Его контакты с философией — образец благопристойного дискомфорта шеи, стянутой тугим воротничком и тоскующей по полногрудому воздуху. «Она подчас вредила мне, мешая мне подвигаться по присущему мне от природы пути» (9, 15(4), 281). Исключения не составила Даже немецкая классическая философия в лице трех своих представителей — Фихте, Гегеля и Шеллинга. Все трое были пронизаны мощными импульсами гётевского мировоззрения, вплоть до того, что считали себя так или иначе философскими глашатаями этого мировоззрения. Для Фихте Гёте — «пробный камень» философии как таковой. Гегель прямо благодарит его за новые перспективы философского мышления. Шеллинг считает его своим духовным отцом. Тем не менее дистанция сохраняла силу, и опасливость то и дело давала о себе знать. «Эти господа, — отзывается Гёте о фихтеанцах, — постоянно пережевывают свой собственный вздор и суматошатся вокруг своего „я“. Им это, может быть, по вкусу, но не нам, остальным» (9, 23(4), 112). Раздражение не обходит и Гегеля: «Я не хочу детально вникать в философию Гегеля, хотя сам Гегель мне приятен» (8, 60). Исключение, казалось бы, составил Шеллинг, прививающий философии моцартовскую легкость и быстроту, но природа и здесь взяла свое: «С Шеллингом я провел хороший вечер. Большая ясность при большой глубине всегда очень радует. Я бы чаще виделся с ним, если бы не надеялся еще на поэтическое вдохновение, а философия разрушает у меня поэзию» (5, 2, 300).