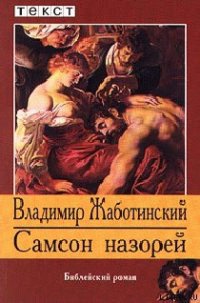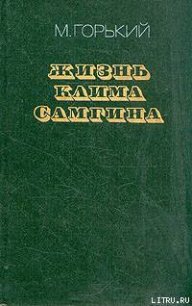Повесть моих дней - Жаботинский Владимир Евгеньевич (читать полностью книгу без регистрации txt) 📗
Хотя я не помню, — и слава Богу, что не помню, — о чем я писал изо дня в день все эти два года, я уверен, что мои статьи не обнаруживали никакой постоянной политической линии. Учение Лабриолы и Ферри? Я не отрекся от него в глубине души, но просто не прибегал к нему и не интересовался им. Может быть, только одну идею я подчеркивал и на страницах газет и в своих выступлениях с трибуны «Литературного клуба» (ибо, несмотря на обиду, я не прекратил посещать его): идею «индивидуализма», той «панбасилеи», о которой я уже упоминал несколькими страницами ранее и на которой, если бы Творец благословил меня достаточным умом и знанием, чтобы формулировать новую философскую систему, я основал бы и построил все свое учение: в начале сотворил Господь Индивидуума; каждый индивидуум — царь, равный своему ближнему; ближний твой — в свою очередь — тоже «царь», и уж лучше пусть личность прегрешит против общества, чем общество против личности; ради блага индивидуумов создано общество, а не наоборот; и грядущий конец истории, пришествие Мессии — это рай индивидуумов, царство сияющей анархии, игра взаимоборствующих человеческих сил, не стесненных законом и границами, и у общества нет иного назначения, кроме как помочь павшему, утешить его, поднять его и дать ему возможность снова вернуться к этой игре борений. Если вслед за этими томами, первый из которых ныне предлагается еврейскому читателю, появятся мои стихи «Ноэла» и «Шафлох» в прекрасном переводе Райхмана и они поразят читателя своим полным отрицанием обязанностей личности в отношении нации и общества, — то должен признаться, что такова моя вера по сей день.
Мне могут указать на противоречие между таким взглядом на вещи и содержанием моей национальной пропаганды: один из моих друзей, который читал эту рукопись, напомнил мне, что слышал от меня и другой припев: «В начале сотворил Бог нацию». Здесь нет противоречия. Разве второй куплет не сформулирован против тех, кто утверждает, что «в начале» сотворено «человечество»: я верю всем своим существом, что в состязании между понятиями нация стоит впереди человечества, так же как индивидуум стоит перед нацией. И если подчинит некий индивидуум всю свою жизнь служению нации, то и это не противоречие в моих глазах: такова его воля, а не долг. В небольшой пьесе «Ладно», которая была поставлена на одесской сцене в 1901 году, я посвятил длинный монолог этой идее. Быть может, и его г-н Райхман переведет, и он появится в одном из следующих томов тоже. Но вот вкратце его содержание: ты рожден свободным, свободным от долга по отношению к высокому и к низменному; не приноси жертв, ибо не из семени жертвы произрастет благословенный плод. Воле своей воздвигни алтарь, воля — твой единственный водитель, куда она поведет тебя — туда иди, куда бы ни вел твой путь, на небеса или в преисподнюю, и чем бы ни оказался: подвигом или грехом, празднеством или мытарством, или даже бременем служения народу: ибо и это бремя возложил ты на себя не как покорный раб, по приказу, а как свободный человек и как властитель, который осуществляет свою волю. Кто знает, хоть я и состарился и уже не жду перемен в беге своей жизни, но, возможно, еще до конца повести моей жизни мне выпадет вписать в нее также главу, которая выпятит и воплотит эту мою главную веру.
Большинство читателей «Новостей» читали охотно мои статьи, но ни один из них не относился серьезно к ним и к их тенденции, и я знал это. Однажды -и это была, кажется, единственная из всех статей этого периода, которую стоило бы спасти от погребения, — я назвал себя и всех остальных своих собратьев по перу черным по белому «клоунами». Статья была направлена против одного журналиста из конкурирующей газеты, человека достойного, спокойного и безликого, не умного и не глупого, анонима в полном смысле этого слова, который стал для меня своего рода забавой и над которым я потешался при всякой возможности и без всякой возможности, просто так. Однажды я обратился к нему прямо и написал: разумеется, без причины и нужды травил я тебя и буду травить, потому что мы клоуны в глазах бездельника-читателя. Мы болтаем, а он зевает, мы желчью пишем, а он говорит: «Недурно написано, дайте мне еще стакан компоту». Что делать клоуну на такой арене, как не отвесить пощечину своему собрату, другому клоуну?
К моему сионизму тоже относились как к чему-то несерьезному. Действительно, я не присоединился тогда еще ни к одной организации, не знал никого из сионистов в городе, но несколько раз посвятил один или два абзаца этой теме. В почетном петербургском ежемесячнике появилась статья некоего Бикермана, написанная в стиле, который величали в то время «научным». Он разносил сионизм в пух и прах, доказывал, что еврейскому народу выпала счастливая и завидная судьба. Я написал пространный ответ, с аргументами, к которым и ныне мне нечего прибавить; на другой день я встретился с одним из своих знакомых, Равницким, тоже несомненным почитателем Сиона. Он сказал мне: «Что это за новую забаву вы нашли себе?»
Жил я дома у мамы с сестрой. У них произошли большие перемены за время моего пребывания в Италии: сестра вышла замуж за врача, уроженца Александровска-на-Днепре. Это река и город отца. Я побывал там. Половина его жителей еще помнила «Иону», маму приняли, как вдовствующую царицу, и вечерами за чайным столиком на веранде нам рассказывали легенды о подвигах отца, о былом величии Днепра и об украинской торговле зерном. Полтора года спустя — я был тогда в Риме — умер зять, и в доме остались две вдовы и четырехмесячный младенец (теперь он инженер электрической компании в Хайфе). Сестра совладала с горем, открыла женскую школу и начала развивать ее мало-помалу в гимназию. Всегда в их квартирах была комната, которую они называли «моей», и при каждом моем возвращении в Одессу требовалось только постелить простыни на мою кровать.
Однажды посреди ночи — это было в начале 1902 года — сестра разбудила меня и прошептала «полиция». Вошел офицер в голубом жандармском мундире. В течение часа он рылся в моих книгах и бумагах, нашел какую-то «запрещенную» брошюру и пачку моих статей, которые напечатали в итальянской газете, издававшейся в Милане, и предложил следовать за ним: «Я получил приказ доставить вас в Крепость». Я поцеловал маму и сестру. Они не плакали и не жаловались, мама только сказала мне тихо: «Да благословит тебя Господь», и мы уехали. Крепость находится далеко за городом, за горой Чумкой, позади христианского и еврейского кладбищ. Дорогу я скоротал за любезной беседой с околоточным надзирателем, и он сказал мне: «Читал я, сударь, ваши статьи; весьма недурственно».