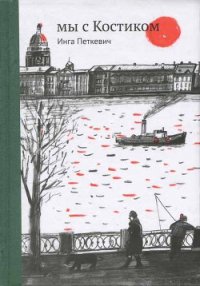Жизнь – сапожок непарный. Книга первая - Петкевич Тамара Владимировна (библиотека электронных книг TXT, FB2) 📗
В пятницу, 22 ноября 1937 года, мама приехала в Ленинград, чтобы взять кое-какие вещи. В субботу после школы мы вместе должны были их увезти. Мама переночевала дома. Вернувшись из школы, я её не застала.
– Где мама? – спросила я бабушку.
– Садись пообедай, – заплакала она.
– Где мама?
– Сядь поешь, – повторила бабушка.
В комнату вошёл сосед, которому родители сдавали комнату.
– Тамара, вы взрослая девочка, – сказал Давид Абрамович, – надо быть мужественной. Сегодня ночью арестовали вашего отца.
Ещё плохо понимая, что с нами случилось, я только слышала, как, заглушая всё остальное, гремели слова: «Вашего папу аресто-ва-ли!» Телефонистка из Жихарева рассказала маме, как ночью пришли за папой, как делали обыск, как папа, по словам понятых, в несколько минут стал весь белый – поседел на глазах. Когда его уводили, сестрёнки бежали за ним до станции. Их отгоняли, но они всё бежали за ним и плакали. Телефонистка подобрала их и до утра продержала у себя.
После её звонка мама кинулась на вокзал к первому попавшемуся поезду. Схватив оставленные вещи, я заторопилась следом. В трамвае люди разговаривали между собой, словно ничего не произошло. Всё вдруг отодвинулось, стало посторонним, чужим. В поезде, забравшись на вторую полку, чтобы ни с кем не общаться, я смотрела в окно. Уже выпал снег. Папа возник где-то в глубине сознания. В сердце. И там его вели двое с винтовками. Папа оступался, проваливался в снег… двое подталкивали его. Я не могла одолеть, переварить эту картину: папа молча шёл и шёл под конвоем по ходу поезда… Я, оказывается, сильно любила своего сурового, безупречно честного отца. Едва не проехав станцию, забыв в вагоне все вещи, всё-таки успела выскочить из поезда.
Дома после обыска всё было разбросано. Из угла комнаты без слёз смотрели перепуганные сестрёнки. Ни к чему не притронувшись, лежала в постели мама. Попросила протопить комнату и что-то сварить поесть. Я хотела пойти к позвонившей в Ленинград телефонистке, но мама остановила:
– Не надо. Она просила не приходить. Для того чтобы позвонить нам, она ездила на другую станцию.
И теперь, уже без всяких вопросов, я всё стала понимать сама. Папы не было. Мира, в котором мы до сих пор существовали, не стало.
Было 23 ноября 1937 года.
Мы сразу оказались в полной изоляции. Как в ночь резни гугенотов, ворота нашего дома оказались помеченными знаком уничтожения. И ничто уже отныне не могло этого отменить. Не просто было сообразить, что надо делать сперва, что потом. Мама всё время плакала. Решений никаких принимать не могла. Я поняла и это.
На следующий день я неуверенно сказала: «Надо переезжать в Ленинград». – «Да», – послушно ответила она. Стало ясно, что я имею право голоса. И теперь, очевидно, решающего. Но я не была к этому готова. Следовало через что-то перепрыгнуть, нащупать под ногами какую-то прочность.
Начали собирать вещи. Их надо было переправить на вокзал. Мама позвонила в правление Назиевстроя. Жене арестованного начальника транспортного отдела в транспорте отказали. Вдвоём мы начали перетаскивать вещи на себе. В такие минуты рождается острое внутреннее зрение, душевная зоркость. Я ещё верила, что, увидев, как мы с мамой тащим на себе наш скарб, мои поклонники, столь изобретательно объяснявшиеся мне в любви, ринутся на помощь. Нет. Посёлок будто вымели. Из окон домов глядели знакомые, но на улицу не выходили.
И всё-таки, когда мы волокли на себе швейную машину, один человек не выдержал, вышел навстречу. Это был тот самый Михаил Иванович Казаков, который в Ириновке в один из лунных вечеров постучал ко мне в комнату и с которым меня связал первый в жизни тайный поцелуй. Когда он, твёрдо ступая по земле, шёл к нам навстречу, что-то из стремительно исчезавшего мира задержалось. Михаил Иванович дорого заплатил за этот порыв души. Через пару дней он был исключён из партии «за связь с семьёй врага народа».
Мы вернулись домой, в Ленинград. Надо было искать по тюрьмам папу. А как это делается? Куда и к кому обращаться?
Глава вторая
Со дня папиного ареста я стала именоваться «дочерью врага народа». Это была, так сказать, моя первая политическая кличка, полученная от Времени. В школе меня перестали вызывать на уроках. Под каким-то предлогом пересадили на последнюю парту. Но потрясение от происшедшего в семье было так велико, что частности принимались послушно, почти как должное. Папин арест обязывал ко многим незамедлительным решениям, в том числе к устройству на работу. Занятия были заброшены. Я выискивала объявления на доске: «Требуются…» Мозаичный цех, выплачивающий ученикам стипендию, показался наиболее приемлемым, и я с тоскливым чувством отправилась в школу забирать документы.
Выслушав меня, завуч Нина Васильевна Запольская плотно прикрыла дверь учительской, негромко, но решительно сказала: «Что бы там ни было, Тамара, надо закончить десятилетку. Осталось всего полгода. Я тебя не отпущу! Для приработка найду тебе учеников». Твёрдая позиция завуча школы по отношению к судьбе одной из учениц была, казалось бы, естественной, но не в трясине опешенности и растерянности конца 1937 года, когда в одночасье нормальное превращалось в свою противоположность. Вмешательство завуча Нины Васильевны, как и помощь Михаила Ивановича Казакова при нашем переезде в Ленинград, казались мигающими огоньками чего-то ещё существующего, но уже подпольно. А я со всей страстью цеплялась за устойчивость прежних представлений о жизни.
Нина Васильевна нашла мне учеников. Главное как будто уладилось. Фокус, однако, заключался в том, что главным стало разом всё: поиски тюрьмы, где находился отец, мамино здоровье, присмотр за сёстрами, попытки совместить учёбу с работой. Жизнь начиналась всерьёз. Буквально через пару недель после папиного ареста меня вызвали на бюро комсомольского комитета. Длинный стол был покрыт кумачом. На стене – портреты Сталина и Ежова. Солнце косой трубой высвечивало неприкаянность пылинок.
Новый комсорг и члены бюро приступили к разговору. Было сказано, что я всегда была примерной комсомолкой, поэтому мне и хотят помочь. В данный, решающий момент всё зависит от меня самой. Для того чтобы всем было ясно, что при создавшемся положении вещей я продолжаю мыслить как настоящий член ВЛКСМ и гражданин своей страны, я должна публично отречься от своего отца – «врага народа». Долг каждого честного человека – поступить именно так. Другого выхода нет. Как я отношусь к сказанному, что думаю, спросили меня в заключение. К тому, чтобы отречься от отца? Раздумывать тут было нечего.
– Мой отец ни в чём не виноват! Он не враг народа! – отрезала я.
– Откуда ты это можешь знать? Кто тебе дал право ручаться за отца? – жёстко наступали на меня.
– Право? Никто не давал. Я знаю своего отца. Он невиновен!
– Что ж, докажи.
Что значит «докажи»? Была вера, не допускающая мысли о виновности отца. Я могла рассказать о его перегруженности, бескорыстной самоотдаче, о том, как важно ему было, чтобы дети росли правдивыми и честными. А «доказать»?.. Впрочем, разговор об «отречении» представлялся мне средством, используемым для устрашения, для проверки моей готовности защитить отца. Не может же быть в самом деле серьёзным предложение отречься! Через несколько дней я прочла объявление: состоится комсомольское собрание. Один из вопросов повестки дня – обо мне.
На собрании я слушала, но опять не верила, что всё это относится ко мне. Председатель очерствевшим голосом докладывал о какой-то Петкевич как о «дочери врага народа», для которой органы НКВД не являются, видите ли, авторитетом. Она не верит, что её отец арестован за дело, и не желает отказаться от него, что и ставит её в данной ситуации вне комсомола.
– Кто за исключение Петкевич из рядов ВЛКСМ?
Поднялся лес рук. «За» не проголосовали лишь двое: отличник из нашего класса Илья Грановский и мальчик из параллельного класса. Решение формулировалось так – исключить из комсомола: 1) за потерю политической бдительности (за то, что прозевала в собственной семье «врага народа» – отца); 2) за клевету на органы НКВД (поскольку неверие в виновность отца означает неверие в справедливые действия наркомата внутренних дел). Третий пункт почему-то не запомнила вообще.