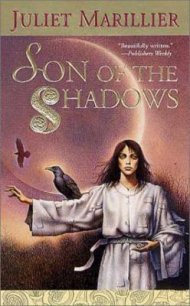Дягилев. С Дягилевым - Лифарь Сергей Михайлович (читать книги онлайн бесплатно полные версии .TXT, .FB2) 📗
Я вскакиваю с постели:
– Едем в театр. Я создам своего блудного сына – себя.
Прибегаю в театр, быстро гримируюсь. Сергея Павловича нет на сцене. Танцую «Фавна». После «Фавна» идет «Renard». Я ищу Сергея Павловича – его нет ни на сцене, ни в уборной. Проходит «Renard» – триумфально, с овациями, с криками «Стравинский!», «Лифарь!». Стравинский выходит на сцену с артистами и раскланивается публике. Крики «Лифарь!» усиливаются и покрывают аплодисменты. Стравинский выбегает за мной и тащит меня на сцену – я не иду.
– Если вы не пойдете, клянусь, я с вами поссорюсь на всю жизнь.
– Я не выйду.
Вся труппа аплодирует и хочет силой вывести меня на сцену. Григорьев взволнованно: «Лифарь, немедленно выходите на сцену». Я ухватился за железный болт и не вышел.
Антракт. После антракта должен идти «Блудный сын», а Сергея Павловича все нет. Где он?.. Финальная сцена «Блудного сына». Я выхожу и начинаю почти импровизировать ее, охваченный дрожью, трепетом, экстазом. Играю себя – «блудного сына», потерявшего веру в друзей, ставшего одиноким, усталым, замученным своими мыслями, замученным людьми, обманувшими мою детскую, слепую веру в них. Все, что я переживал за последние шесть месяцев, все одиночество, вся боль, страдание и разочарование – все каким-то экстатическим чудом было драматически пластично воплощено в пяти-шести минутах сценического действия. Эта финальная сцена была игрой, но игрой – куском жизни, брошенным на сцену, и так я никогда еще не играл и никогда не буду играть.
По окончании «Блудного сына» публика буквально неистовствовала, многие в зале плакали, но никто не знал, что я играл себя, играл свою жизнь. Это мог знать и понять, почувствовать своей большой душой только один Он, – но, может быть, его и нет в театре, может быть, он и не видел ничего, а может быть, так был недоволен «Renard’oм», что ушел, не дождавшись «Блудного сына»? В уборную влетает Нувель, обнимает меня порывисто: «Браво, Лифарь, прекрасно, изумительно!»
Уборная моя полна народу, многие женщины приходят в слезах, все меня поздравляют, жмут руки, обнимают – а Сергея Павловича нет.
Я начинаю разгримировываться – и тут только вижу среди толпы в уголке Сергея Павловича. Все перевернулось во мне, когда я его увидел таким: Сергей Павлович неподвижно стоит, не подходит ко мне и плачет – крупные слезы катятся по его щекам – слезы обиды? Или Дягилев оплакивает меня? Вид его не столько растрогал меня, сколько испугал, и во мне поднялась тревога: «Если Сергей Павлович не подходит ко мне, не хочет подходить, значит, ему стыдно за меня, за то, что я так скверно сыграл и плохими, дешевыми средствами каботинажа купил успех, достигнутый антихудожественными приемами, – и презирает меня, мою дурную маленькую натуришку, которая вся сказалась в этой игре. Теперь конец всему – мне надо будет распроститься с Дягилевым и с балетом».
Сергей Павлович медленно выходит из своего угла, видит мое возбужденное, нервное состояние и не подходит ко мне, а всех просит уйти из уборной (оказывается, Дягилев вообще многих не пускал ко мне, и он едва не поссорился из-за этого с Морисом Ростаном), оставив одного Валечку Нувеля и Абеля Германа, который всегда сидел в моей ложе. Я разгримировался, немного отдышался… Нувель передает, что Сергей Павлович уехал в «Capucines» ужинать и ждет меня там. Я не знаю, ехать ли мне: не ждет ли меня там позор? Я уже раскаиваюсь в своей «игре» и упрекаю себя в том, что всегда делаю не то, что нужно. Мы с Нувелем едва пробираемся – народищу масса, как всегда в «Capucines» после премьеры. Меня встречают овациями, криками – меня не радуют эти крики, и с тяжелым сердцем, подавленный, сажусь я против Сергея Павловича, который оставил мне почетное место за столом между Мисей и Коко. Все обступили меня, все, видя мое расстроенное лицо, спрашивают, что со мной.
– Ничего, просто я очень устал.
Я сажусь за стол, беру бокал шампанского и обращаюсь к Сергею Павловичу:
– Сергей Павлович, я пью за вас и за ваш двадцать второй парижский сезон. Как бы то ни было – говорю я, как бы прося прощения, – вы все-таки имели успех.
Сергей Павлович подымает свой бокал, долго-долго скорбно смотрит на меня (я опять вижу в его глазах слезы) и после молчания:
– Да, спасибо тебе, Сережа, ты большой, настоящий артист. Теперь мне тебя нечему учить, я у тебя должен учиться…
Последний парижский сезон в Театре Сары Бернар проходит блестяще, но последний спектакль (12 июня) оставил во мне тягостное впечатление. После спектакля Дягилев отправился, как всегда, в «Capucines», я остался разгримировываться с Челищевым и Кохно. Одевшись, протягиваю руку, чтобы взять макеты Руо, которые мне подарил Сергей Павлович и которые лежали на шкафу. Вытягиваю макеты – вдруг через мою голову летит со шкафа зеркало, положенное кем-то на макеты, и разбивается на мелкие кусочки.
– Конечно, это наш последний спектакль, мы больше никогда не вернемся в этот театр.
Мы собираем все осколки зеркала и, чтобы предупредить несчастье, бросаем их с моста в Сену. Все с опозданием приезжаем в «Capucines».
– Что с тобой? Что случилось? Почему вы так поздно и почему ты такой бледный?
Я рассказал суеверному, верившему во все приметы Сергею Павловичу историю с зеркалом; он насмерть перепугался и, по крайней мере в течение недели, находился под гнетом этого впечатления. Меня все упрекали, особенно Вальтер Федорович («зачем ты рассказал об этом Сергею Павловичу»?), да я и сам упрекал себя и раскаивался в этом, тем более что Сергей Павлович стал мучиться невероятной величины фурункулами.
Перед отъездом из Парижа Сергей Павлович пригласил обедать к Cabassu меня и моего старшего брата; Сергей Павлович все время обращался к моему брату, вел с ним разговоры на политические темы, расспрашивал об его жизни в советской России, о его скитаниях по славянским странам, спрашивал, какое впечатление произвожу на него я, его брат…
Расстояние между Дягилевым и мною все увеличивалось и увеличивалось: я вырастал, зрелел, мрачнел, становился более самостоятельным и более индивидуальным и снова одиночествовал после яркой вспышки в «Блудном сыне», Сергей Павлович все более и более увлекался новым музыкантом, в котором он видел завтрашний день. Игорь Маркевич действительно поражал: поражал своей насыщенностью ритмом при тематической скудости и своей музыкальной незрелостью. С юношеским застенчивым задором, свойственным его шестнадцати годам, он не признавал никаких Стравинских и Прокофьевых, да и вообще никаких музыкантов между Бахом и Игорем Маркевичем. Не потому ли, что он их мало знал? Нас всех коробила эта самовлюбленность и его запальчивые суждения, Сергей Павлович старался деликатно смягчать их и считал, что все это пройдет с годами, когда Маркевич приобщится к большой музыкальной культуре. Открыть перед ним музыкальную культуру, образовать его и сделать из него музыканта первой величины – задача эта увлекла (в который раз?) Сергея Павловича, который говорил своему юному другу:
– Вы должны, дорогой Игорь, пройти через музыкальную культуру, которая поможет вам найти в себе истинное музыкальное чувство, соответствующее сегодняшнему дню и, если Бог того захочет, завтрашнему.
В увлечении Сергея Павловича Маркевичем сказалось то свойство его, которое он формулировал фразой: «Нельзя жить без надежды снова увидеть на заре луч завтрашнего солнца». Маркевич был или, вернее, должен был быть тем «лучом завтрашнего солнца», который Дягилев хотел увидеть на заре, – но завтрашнего дня уже не существовало для Сергея Павловича, и он скоро это почувствовал и тогда захотел воскресить вчерашний…
В середине июня, по окончании парижского сезона, мы уехали в Германию – в Берлин и в Кёльн. Помню, как в Берлине у Сергея Павловича произошла бурная сцена с Нувелем. После прогулки по Берлину я вернулся в отель и негодующе обратился к Дягилеву со словами:
– Вы видели афиши?
– Нет. А в чем дело?
– В том, что я, кажется, стал последним артистом в нашей труппе: по всему городу расклеены афиши о выступлении Войцеховского, Долина, Идзиковского – «и Лифаря».