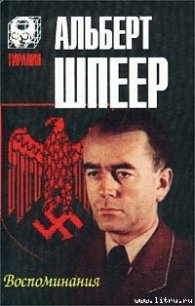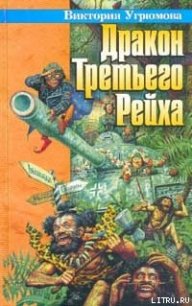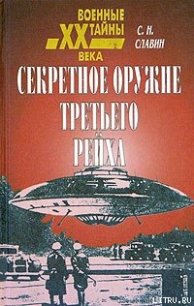Люфтваффе: триумф и поражение. Воспоминания фельдмаршала Третьего рейха. 1933-1947 - Кессельринг Альберт
Несколько слов о письменных показаниях под присягой. Они давались в отсутствие лица, облеченного полномочиями приведения свидетелей к присяге; к тому же все это происходило через несколько лет после событий, которые являлись объектом расследования; и, наконец, эти показания составлялись на основе заявлений многих людей, количество которых иной раз доходило до сотни, причем на этих людей могли оказывать давление партизаны и коммунисты. Расследования, предпринятые на этот счет итальянцами, показали, что в большинстве случаев показания таких свидетелей были либо недостоверными, либо сильно преувеличенными; следовательно, эти показания нельзя было использовать как улики. Выяснилось, что нарушения, ставшие объектом расследования, частично были на совести фашистских организаций, таких, например, как «Бригата Нера» (Вгц»а1а Мега), либо итальянских уголовников, переодетых в германскую военную форму. Английский следователь подтвердил это в петиции, которую он представил в суд от моего имени и в которой, ввиду своей глубокой осведомленности о методах, применявшихся немцами во время войны в Италии, настаивал не только на освобождении фон Макен-сена, Мельцера и меня из тюрьмы, но и на нашем помиловании.
Необходимо также отметить, что все немецкие и итальянские свидетели, выступавшие в мою защиту, по всей видимости, были признаны «недостойными доверия», в то время как сказки свидетелей-итальянцев и письменные заявления британцев, на которые опиралось обвинение, – «достойными» такового. Нас, подсудимых, воспитанных в духе немецкой концепции правосудия, в очередной раз поразило то, что правило, в соответствии с которым сомнение должно толковаться в пользу обвиняемого, не было соблюдено, в результате чего суд вынес приговор «смерть через расстрел».
Четверо моих адвокатов – доктор Латернсер, доктор Фрогвейн, доктор Шутце и профессор Швинге – до суда просто отказывались верить в возможность признания меня виновным. Позже, когда военный прокурор объявил, что я признан виновным по двум пунктам обвинительного заключения, они заверяли меня, что речь может идти лишь о весьма мягком наказании. Они твердо придерживались этой точки зрения, несмотря на то что я был уверен в обратном. Соответственно, когда меня по обоим пунктам приговорили к смертной казни, я утешал их, а не они меня. Такова правда, и я пишу об этом потому, что, на мой взгляд, мои воспоминания проливают свет на ход судебного процесса. Впрочем, исход всех судебных процессов, касающихся военных преступлений, говорит о^том, что нет смысла высказывать критические замечания по поводу процессуальных нарушений со стороны держав-победительниц.
Вечером того самого дня, когда был оглашен приговор, я написал следующее письмо:
«6 мая 1947 года. Фатальный день позади. Я предвидел такой исход – не потому, что считал свои действия незаконными, а потому, что сомневался в способности людей руководствоваться чувством справедливости. Моя защита и многие другие считали такой приговор невозможным. По их мнению, меня должны были оправдать, даже если моя совесть была не совсем чиста. Но приговор мог быть только один – тот, который был оглашен. Потому что
1) суду надо мной предшествовал судебный процесс в Риме, и военный прокурор изо всех сил боролся за то, чтобы он был использован в качестве прецедента;
2) партизанская война, которая до сих пор прославляется и возвеличивается, не могла быть квалифицирована как преступная деятельность и войти в историю как таковая; и, наконец,
3) германскому офицерству, а вместе с ним и всем представителям военной профессии в Германии хотели нанести смертельный удар».
Сегодня западные государства закрывают глаза на тот факт, что тем самым они нанесли удар по собственному будущему. Я невольно вспоминаю разговор в Нюрнберге, в ходе которого мой хорошо информированный знакомый сказал мне: «Вас в любом случае так или иначе ликвидируют. Вы слишком заметная, слишком популярная фигура. Вам грозит опасность».
Это замечание открыло мне глаза на мою миссию, которая состоит в том, чтобы показать, что мы вели себя достойно. Мое личное поведение определялось моим именем, званием и тем уважением, с которым относился ко мне немецкий народ. Я старался соответствовать тем высоким требованиям, которые ко мне предъявлялись, и, с Божьей помощью, достойно снесу любую, даже самую тяжкую долю, которая мне выпадет. О себе я могу сказать, что в течение всей своей жизни я руководствовался лучшими побуждениями; и если мне не всегда удавалось достичь поставленных целей, пусть меня судят те, кто никогда не совершал ошибок. Человека, уважающего самого себя, не может смутить осуждение фарисеев. Моя жизнь была полной, потому что в ней было много работы, забот и ответственности. То, что она заканчивается страданиями, – не моя вина. Но если в нынешнем положении я все еще нужен моим товарищам, -если люди, пользующиеся всеобщим уважением, все еще рады возможности пообщаться со мной, то это говорит о многом. Если ко мне с уважением относятся даже мои бывшие враги, если при упоминании о вынесенном мне приговоре люди пораженно качают головой, это тоже много значит. Если итальянцы заявляют, что меня нужно было не предавать суду, а наградить четырьмя золотыми медалями, это свидетельствует о том, что они стараются подняться выше мстительного чувства, характерного для сегодняшнего дня.
В 1950-м и 1951 годах баварский суд по делам денацификации, рассматривавший те же события и опиравшийся на те же материалы, что и суд в Венеции, вынес по моему делу приговор «непричастен». Хотя я, не говоря уже о британцах, усмотрел в этом нарушение принципа пе Ыз т Шет, я все же испытал чувство благодарности за подобную ясно выраженную критику в отношении вердикта, вынесенного трибуналом.
Я уже упоминал в этой главе о том, что трибунал должен был по крайней мере усомниться в обоснованности занятой им позиции. В соответствии с общепринятой международной практикой, он должен был подробно изучить мою деятельность в целом – по мнению моей защиты, уже одно это могло привести к вынесению мне оправдательного приговора. Так вот, я должен категорически заявить, что военный прокурор, который до этого тщательно фиксировал каждое слово, произносившееся в зале суда, со скучающим видом отложил свою авторучку, когда шел допрос свидетелей по вопросам, которым посвящен следующий раздел данной главы, и тем самым продемонстрировал явное отсутствие интереса к их показаниям.
Как ни тяжело мне привлекать всеобщее внимание к своим действиям, я уверен, что обязан вынести на всеобщий суд нечто, что уже стало историей. Сколько бы выдающихся людей ни оспаривало право называться первым из тех, кто стал предпринимать шаги, о которых я хочу поговорить, факт остается фактом: я, и только я был вынужден взять на себя ответственность за принятые мной весьма необычные решения. Я думаю, что будет правильным достаточно подробно осветить этот вопрос, потому что считаю, что Немецкий народ и другие народы западного мира должны знать: несмотря на все кровавые события, имевшие место во время Второй мировой войны, германские солдаты руководствовались гуманными, культурными и экономическими соображениями в такой степени, которая редко бывает возможной во время военных конфликтов подобного масштаба.
Занимая должность командующего Южным фронтом, я не допустил планировавшейся эвакуации миллионного населения Рима. В отличие от войны 1914-1918 годов, в ходе которой население городов, вблизи которых проходила линия фронта, обычно эвакуировали на добровольной или принудительной основе, население Рима, хотя линия фронта была всего в двадцати километрах от города, выросло почти в полтора раза. Эвакуация, даже если бы она ограничилась определенными категориями жителей столицы, учитывая стратегию авиации противника, дефицит транспорта и трудности с продовольствием, наверняка привела бы к гибели сотен тысяч людей.
По приказу Гиммлера еврейская община города подлежала депортации в неизвестном направлении. Я лично сделал выполнение этого приказа невозможным. То, что сегодня я все еще остаюсь пригвожденным к позорному столбу как обыкновенный убийца и преступник, свидетельствует о том, что римская еврейская община плохо разбирается в людях.