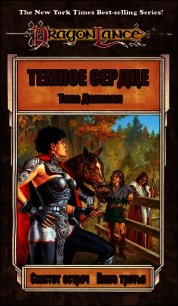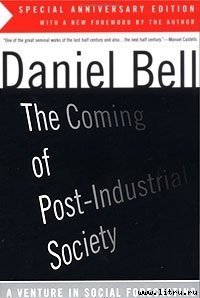Услышать Голос Твой - Морис Кэтрин (мир книг .txt) 📗
Я так и поступила. Я пришла туда с Анн-Мари, два дня спустя. Там меня приветствовали три женщины, одна из которых была воспитательницей в яслях, другая – психиатром, а третья была миссис Петерс. Они не много говорили, за исключением миссис Петерс, которая отвела меня в боковую комнату, где долго расспрашивала о наших проблемах. Психиатр стала наблюдать за Анн-Мари, которую воспитательница взяла за руку и повела по комнате, пытаясь поиграть с ней.
Всё-таки я хотела чётко определить, чем занимались в яслях. Была ли там специальная программа для детей-аутистов? Был ли обеспечен индивидуальный подход к ребёнку? Были ли определены конкретные цели для каждого отдельного ребёнка? Каких именно результатов пытались добиться там? По большому счёту я хотела выяснить следующее: что они могли дать моей дочери, чего она не получала или не могла получить дома? Какая польза была от всех их учёных степеней для Анн-Мари? И каков бы ни был их опыт, могли ли они научить меня тому, что помогло бы дочери. Всё равно большую часть времени ей предстояло проводить со мной.
Их ответ разочаровал меня. По сути дела, они обещали обеспечить несколько часов в неделю любви, понимания и "принимания", а также горы бюрократии, и периодические громко звучащие "конференции", где любой прогресс будет "фиксироваться".
Я поблагодарила их за время, уделённое нам, и вышла. Первое решение было принято: Анн-Мари не пойдёт в лечебные ясли Пэйн Уитни. К началу
Глава 5
В отличие от доктора Бермана, который до сих пор сомневался в правильности диагноза Анн-Мари, мы потеряли всякую надежду на то, что он ошибочен. Состояние дочери явно ухудшалось день ото дня. К середине января она даже перестала поднимать голову, когда кто-нибудь входил или выходил из квартиры. Часто, сидя на полу, она смотрела на мелкие пылинки, подносила их к глазам и долго разглядывала, словно под гипнозом. Она отрывала ворсинки с ковра, нитки с мебели или волосы с куклы, а потом накручивала их на пальцы и с увлечением рассматривала. В другой раз она ритмично сталкивала перед собой два предмета, заинтересованная сочетанием звука и картинки (?).
Её занятия становились всё более странными. Я почти в панике наблюдала за тем, как она сотрировала части мозаики "пазл", а потом раскладывала их по парам, всегда под прямым углом друг к другу, и неотрывно смотрела на них. Ну пожалуйста, детка, ради Бога, не делай этого! Почему ты это делаешь?
На Рождество мы подарили ей игрушечного медвежонка. Мы надеялись, что она будет обнимать и гладить его, как любой нормальный ребёнок. Вместо этого у неё появился странный ритуал: она снова и снова протаскивала медвежонка через нижние перекладины стула.
Её поведение также становилось всё более необычным. Ещё с того момента, когда дочь сделала свой первый шаг, она иногда ходила по дому на цыпочках. В последнее время это стало её постоянной привычкой. Кроме того, однажды я заметила у неё новую особенность в поведении: девочка, как всегда, сидела на полу с мечтательным выражением лица, как вдруг она вытянула шею и заскрежетала зубами. При взгляде на такое я с трудом удержалась, чтобы не закричать от ужаса. Меня переполняло сознание собственной беспомощности. Иногда я даже замечала, что тихонько постанываю, глядя на какую-нибудь новую странность.
Однажды утром безо всякой причины Анн-Мари подняла обе руки и стала бить ими себя по лицу: один, два, три удара последовало до того, как я в страхе кинулась к ребёнку, и отняла руки от лица.
Нам всё труднее становилось завоёвывать её внимание. Она либо проводила бесконечные часы, уставившись на что-то в своих руках, либо бесцельно слонялась из комнаты в комнату, обращая внимания не на людей, а на вещи.
Сколько времени прошло с рождения Мишеля? Несколько недель? Казалось, что прошла целая жизнь. Дни превратились в череду длинных пустых часов, которые надо было прожить с неумолимой определённостью. Было очень важно держаться всем вместе, делать то, что я должна была делать для всех троих детей. Я была их матерью, и они нуждались в моей заботе и любви. Я старалась не плакать слишком много в течение дня: не хотелось пугать Даниэля.
Однако, одним утром, он пришёл ко мне в спальню и застал меня в слезах. Он остановился испуганный. Мамы не должны плакать. Его тёмно-карие глаза тут же наполнились слезами. – Мамочка, ты плакаешь? – Да, милый, но сейчас уже всё прошло. Он стоял передо мной, пытаясь понять и облечь в слова то, что чувствовал. Я не могла представить, как он воспринимал окружавшую его атмосферу кризиса и страха. Мы постоянно ходили куда-то, взяв с собой Анн-Мари, говорили о ней по телефону, фокусировали на ней всё наше внимание. Это становилось похоже на манию. Даниэль до поры до времени казался достаточно довольным и спокойным, но я знала, что он был очень чувствительным и ранимым ребёнком. Я ждала, пока он заговорит. – Мамочка, ты ходить к доктору? – в его голосе была тревога. – Да. – Ты брать с собой Аммави? – Да. – Аммави заболела? Я встала на колени и взяла его руки в свои. – Она выздоровеет, мой сладкий. Не волнуйся. Мама и папа всегда будут с тобой, и Анн-Мари, и Мишелем.
Он улыбнулся мне, счастье снова восстановилось в его мире.
Я переживала за Даниэля. Надо было слишком много всего сделать, столько всего выяснить и обдумать в течение дня, поэтому совсем не было возможности проводить с мальчиком всё утро или день и отвечать на сотни вопросов трёхлетнего почемучки.
Хуже того, бывали моменты, когда малыш плакал, Анн-Мари стояла в углу, делая нечто странное, звонил телефон и Даниэль хныкал и сердился на меня. В такие минуты, я была опасно близка к тому, чтобы накричать на него. Я чувствовала, как вспышка гнева разрастается у меня в груди, вот, она доходит до моего рта, щеки, и горло, будто стягивается железными ремнями.
– Отстань от меня, – хотелось мне закричать на сына, – перестань задавать столько вопросов! Перестань без конца цепляться за мою юбку! Я не могу! Я не в силах думать ещё и о тебе сейчас!
Я научилась распознавать такие моменты и заставляла себя избегать их – уходить в свою комнату и закрывать дверь, включать телевизор, чтобы мультфильм отвлёк Даниэля, – делать всё, что могло купить несколько минут тишины и покоя, в течение которых я могла взять себя в руки. "Ты этого не сделаешь! – приказывал внутренний голос, собирая остатки рассудка, – ты не выдашь своей паники и не поднимешь голоса на ребёнка."
Но во мне кипел гнев, и это не давало мне покоя. Я постепенно превращалась в вечно недовольного лунатика. Во мне было зло, и поэтому другое зло овладело мной. Только злая женщина может сердиться на собственного ребёнка.
Необходим был какой-то перевес, какая-то защита против опустошающей ненависти к себе, против горя, гнева, беспомощности.
Надо было научиться успокаиваться, компенсировать силы, хоть немного. Каждый день я старалась выделить хоть несколько минут, чтобы побыть наедине с Даниэлем. Эти моменты были коротки, но я старалась сделать их как можно более наполненными и умиротворёнными. За неимением другого выбора мне пришлось пересмотреть своё понятие "времени с пользой".
Мы уходили в мою комнату, в то время, как Пэтси или Марк могли заняться другими детьми. Я закрывала дверь и пыталась отключиться от мрачной повседневности для того, чтобы направить своё внимание только для радостей, забот и вопросов моего маленького сына. Мы читали книжки или говорили о чём-то, что интересовало его. Я всегда старалась обнимать и гладить его как можно больше, зная, что за день я одёргивала его гораздо чаще, чем он того заслуживал: "Не сейчас, Даниэль", "Позже", "Я это сделаю через минуту", "Мы будем печь печенье завтра", "Тихо! Мама разговаривает по телефону".
Эти светлые моменты, проведённые с Даниэлем, были, как бальзам на рану, нанесённую моему самоуважению.
По секрету от самой себя больше всего на свете мне хотелось быть хорошей матерью: терпеливой, любящей и нежной, знающей, как формировать и направлять юную жизнь, как мудро и правильно её воспитывать. Несмотря на то, что я воспринимала работу, как радость и с большим трудом достигнутое право, которое должно быть доступно каждой женщине, я знала, что если бы мне было предложено выбрать, какой дорогой пойти, то я, не колеблясь, предпочла бы карьере счастье быть с детьми. Мне не раз уже приходилось сталкиваться с полушоковой реакцией, вызванной нашим решением иметь троих (троих!) детей, да ещё и близких друг к другу по возрасту. На улицах Верхне-Восточной части Манхэттэна мне случалось слышать немало удивлённо-критических замечаний от прохожих, часто сделанных далеко не самым любезным тоном, при виде беременной женщины с двумя маленькими детьми. "Общественный контроль рождаемости", – называла это явление одна моя подруга. Это было что-то вроде полуобморочного ужаса, преобладающего среди рафинированной публики. На коктейлях и приёмах я научилась не принимать близко к сердцу снисходительность двадцатипятилетних особ в нарядах от Армани и обуви от Гуччи, карабкающихся изо всех сил по лестнице карьеры, и не тушеваться при вопросе, который был квинтэссенцией Нью-Йоркской жизни: – Чем вы занимаетесь? (Перевод: "Насколько вы привлекательны, престижны и влиятельны?") Ответ (намеренно немного провокативный): "Я – мать". – О! (Оцепенение. Как интересно. Как смело и благородно. Как скучно). Я полагала, что после того, как родился Даниэль, и я не без труда привыкла к образу жизни неработающей матери, я обеспечила себе приятное существование в зелёной долине жизни, где можно быть в миру с самой собой и своим выбором. Я была матерью – не без недостатков, но всё-таки хорошей матерью. Я смирилась с тем, что скука, одиночество и беспорядок были моими частыми гостями, но в то же время умела находить утешение в маленьких ежедневных радостях и победах.