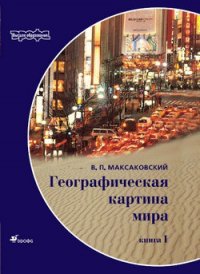Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина: учебное пособие - Быкова Ольга Петровна (книги онлайн полные версии .txt) 📗
Но правда выше жалости, и, ведь, не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил – да и по сей день живет – простой русский человек.
Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней горячее участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздел имущества. Неожиданное возвращение матери еще больше обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому – за Окой, в слободе Кунавине.
Уже вскоре после приезда, в кухне, во время обеда, вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и кричать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко – петухом – закричал:
– По миру пущу!
Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:
– Отдай им все, отец, – спокойней тебе будет, отдай!
– Цыц, потатчица! – кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.
Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиною.
Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатились по полу, хрипя, охая, ругаясь.
Заплакали дети; отчаянно закричала беременная тетка Наталья; моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку; веселая, рябая нянька Евгенья выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем.
Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородою по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:
– Братья, а! Родная кровь! Эх, вы-и...
...Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.
– Эх, вы-и! – часто восклицал он; долгий звук «и-и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.
В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядья и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками, окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни, – в этот опасный час дед садился против меня, и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а все-таки он казался одетым и чище, и красивей сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях.
...Однажды дед спросил:
– Ну, Олешка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку на лбу. Это не велика мудрость желвак нажить! А «Отче наш» заучил?
Тетка тихонько сказала:
– У него память плохая.
Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.
– А коли так – высечь надо! И снова спросил меня:
– Тебя отец сек?
Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала:
– Нет, Максим не бил его, да и мне запретил.
– Это почему же?
– Говорил, битьем не выучишь.
– Дурак он был во всем, Максим этот, покойник, прости господи! – сердито и четко проговорил дед.
Меня обидели его слова. Он заметил это.
– Ты что губы надул? Ишь ты...
И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:
– А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду.
– Как это пороть? – спросил я. Все засмеялись, а дед сказал:
– Погоди, увидишь...
...До субботы я тоже успел провиниться.
Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя становится густо-синей – «кубовой»; полощут серое в рыжей воде и оно становится красноватым – «бордо». Просто, а – непонятно.
Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я рассказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику.
Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет.
– Белое всего легче красится, уж я знаю! – сказал он очень серьезно.
Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил ее край в чан с «кубовой», на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть, и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моею работой:
– Зови бабушку скорее!
И, зловеще качая черной, лохматой головою, сказал мне:
– Ну, и попадет же тебе за это!
...В субботу, перед всенощной, кто-то привел меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамейке сидел сердитый, непохожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерил их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:
– Pa-ад... мучитель...
Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:
– Простите Христа ради...
Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.
– Высеку – прощу, – сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. – Ну-ка, снимай штаны-то!..
Невысоко махнув рукой, он хлопнул кнутом по голому телу. Саша взвизгнул.
– Врешь, – сказал дед, – это не больно! А вот этак больней! И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухнула красная полоса, а брат протяжно завыл.
– Не сладко? – спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. – Не любишь? – Это за наперсток!
Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею; падала рука – и я весь точно падал.
Саша визжал страшно, тонко, противно:
– Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть... Ведь я же сказал...
Спокойно, точно псалтирь читая, дед говорил:
– Донос – не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть! Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки:
– Лексея не дам! Не дам, изверг!
Она стала бить ногою в дверь, призывая:
– Варя, Варвара!..
Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:
– Привязывай! Убью!..
Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела:
– Папаша, не надо!.. Отдайте!..
Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой перед киотом со множеством икон.
Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.
Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою:
– Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись. Ну, что ли?..
Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку, к носу моему.