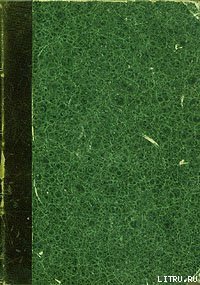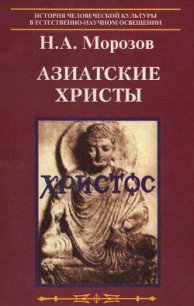Повести моей жизни. Том 1 - Морозов Николай Александрович (бесплатные версии книг TXT) 📗
Никаких книг по общественным наукам, кроме скучной «Истории» Карамзина да статей в журналах, не было в отцовской библиотеке, а потому в догимназический период моего детства мне приходилось довольствоваться лишь собственными мыслями, когда разговоры взрослых побуждали меня задумываться о тех или иных общественных отношениях.
От кого впервые услыхал я, что, кроме монархии, существуют и республики; каким путем непосредственных размышлений убедился я, что республиканский строй, как основанный на постоянном проявлении всенародной воли, справедливее монархического, основанного на случайности рождения; каким образом узнал я затем, что, кроме абсолютных монархий и республик, есть еще и конституционные монархии, и сразу отнес их к разряду паллиативов, — ничего этого я уже не могу припомнить. По всей вероятности, все это совершилось у меня в период между двенадцатью и тринадцатью годами и легло в основу моего дальнейшего развития.
Девиз старинных французских республиканцев — «Свобода, равенство и братство» — сразу покрылся в моих глазах ореолом, но только я прибавлял к нему еще одно слово: «наука», понимая под нею главным образом естествознание, которое, по моему убеждению, одно могло рассеять суеверие и предрассудки, помрачающие человеческие умы.
В какое время и каким образом я узнал, что симпатичный для меня по моим соображениям отвлеченной справедливости республиканский образ правления был достигнут в иностранных государствах путем тяжелой борьбы, от кого я услыхал впервые или прочел где-нибудь, что в России были декабристы, пытавшиеся добиться того же и для нас, но погибшие в тюрьмах и в Сибири; кто мне рассказал, может быть, со спасительной целью устрашения, что существует Петропавловская крепость, и наполнил мое воображение ужасными картинами жестокостей, которые там творятся над всеми, любящими свободу, а мое сердце жалостью и сочувствием к заключенным в ней узникам, — это я тоже не в состоянии припомнить.
По всей вероятности, все это относится к первым годам моей гимназической жизни, а все то, что мне приходилось слышать о таких предметах ранее, не оставляло в моей голове никакого прочного следа или не возбуждало серьезных размышлений.
Но несомненно, что такие разговоры окружающих или заметки в прочитанных мною романах и книгах рано вызвали во мне потребность познакомиться с историей периодов общественной борьбы, хотя к обычной истории с ее бесконечной перипетией войн, пограничных и династических изменений, без указания каких-либо законов общественного развития, я никогда не имел особенной склонности и, подобно большинству, предпочитал знакомиться с жизнью человечества непосредственно по романам.
Только книги по истории революционных периодов я брал время от времени из библиотек уже со средних классов гимназии и до восемнадцати лет перечитал, вероятно, все, что имелось по этому предмету в русской литературе. Таким образом, несмотря на свое постоянное увлечение естественными науками, я передумал по общественным вопросам почти все, что было передумано и перечитано большинством современной мне развитой молодежи.
Когда впоследствии, весной 1874 года, я впервые познакомился с радикалами (как называли себя в то время те, кому в обществе давали кличку нигилистов), то оказалось, что почти вся цитируемая ими в разговорах легальная литература была мне уже хорошо известна.
Но главной моей пищей в периоды отдыха или переутомления всегда были романы, и им, несомненно, принадлежит главная роль в развитии моих симпатий и антипатий в области человеческих отношений. «Один в поле не воин» и «Загадочные натуры» Шпильгагена; «Девяносто третий год» и другие романы Виктора Гюго; «Что делать?» Чернышевского; романы из деятельности карбонаров, как, например, «Доктор Антонио», и остальные в этом роде вызывали во мне глубокое негодование против всякого угнетения и настоящую потребность пожертвовать собою для блага и свободы человечества. Благодаря этому первая же встреча с людьми, занимающимися подобной деятельностью, неизбежно должна была подействовать на меня чрезвычайно сильно.
Однако никаких таких людей я еще не встречал. Вплоть до девятнадцати лет я думал, что, кроме меня да нескольких друзей из моих товарищей-гимназистов, не было в России никого, разделяющего эти мнения и чувства. Из двух путеводных звезд — науки и гражданской свободы, — которые светили для меня в туманной дали будущего, я почти целиком отдавался первой.
Во все время моей гимназической жизни, еще со второго или третьего класса, я по целым дням и ночам просиживал над естественно-научными книгами, ища в них не одних сухих знаний, часть которых давала мне и гимназия, но больше всего разъяснения мучивших меня почти с двенадцати лет вопросов: как начался окружающий меня мир? Чем он кончится? В чем сущность человеческого сознания, и что такое наша жизнь, которая в одно и то же время есть мгновение в сравнении с вечностью и целая вечность в сравнении с одним мгновением?.. Стоит ли жить или не стоит? Так ли чувствуют другие люди, как я, или каждый на свой лад, и потому никто друг друга не понимает, а только воображает, что понимает? Я не хочу сказать, чтобы эти вопросы составляли всю мою жизнь. Нет! Как у всякого другого, они прерывались у меня и посторонними впечатлениями окружающей жизни.
Стоило увидеть хорошенькое личико девушки, и у меня сейчас же появлялся к ней порыв симпатии, и я чувствовал полную готовность в нее влюбиться, и наконец в шестнадцать лет я нашел свой идеал, как уже упоминал, в гувернантке моих младших сестер, только что вышедшей из института очень молоденькой и славной девушке... Стоило увидеть студента с особенно серьезным видом и некоторыми признаками бороды, как я сейчас же начинал чувствовать к нему чрезвычайное благоговение и готов был идти для него куда угодно.
Все это было в младших и средних классах гимназии. На взрослых людей, как я заключаю теперь по множеству их отдельных фраз, оставшихся в моей памяти, я производил впечатление юноши более развитого, чем это полагалось по моему возрасту, хотя какая-то никогда не оставлявшая меня стыдливость — выставлять напоказ другим свои знания — заставляла меня прямо прятать их от более взрослых, особенно если старшие чем-нибудь обнаруживали, что смотрят на меня покровительственно, сверху вниз. Тогда — всему конец! В их присутствии я окончательно замыкался в себе, говорил очень мало и весь сосредоточивался в слухе.
Среди товарищей и сверстников я пользовался всегда большой любовью и сочувствием, быть может, благодаря моей быстрой готовности помогать им в затруднениях и неприготовленных уроках.
Всякий раз, когда я приходил в гимназию и приближался к тому уголку, где собирался наш класс в общей зале, несколько десятков рук уже протягивалось в моем направлении, и все лица прояснялись улыбками. А затем, после приветственных беглых фраз, я садился на корточки, окруженный со всех сторон товарищами, и начинал переводить им латинские уроки или объяснять математические задачи на этот день.
Еще со второго или третьего класса моя страсть к естественным наукам начала увлекать многих из более выдающихся по способностям товарищей по классу, и скоро у нас образовалось тайное общество с целью занятий естествознанием.
Помню курьезный эпизод при основании нашего общества. Для него я написал устав, в котором говорилось, что каждый из нас обязуется заниматься естественными науками, не щадя своей жизни; затем указывалось, что от процветания и развития этих наук зависит все счастье человечества, потому что они позволят человеку облегчить свой физический труд и этим самым дадут ему возможность посвятить свободное время умственному и нравственному совершенствованию. Без этого же человек всегда останется рабом. Словом, устав наш был очень хорош даже и не для полудетей, какими мы тогда были. Но вот и чисто детская черта! Поднялся вопрос, как назвать общество. Я предложил: «Общество естествоиспытателей второй московской гимназии». Но одному из товарищей Шарлю Морелю, брату моего бывшего гувернера, а теперь репетитора, это название показалось слишком эффектным.