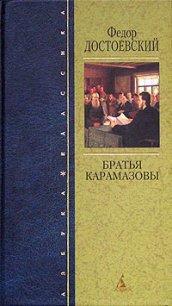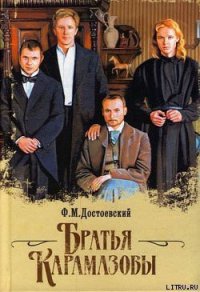Толстой и Достоевский. Братья по совести (СИ) - Ремизов Виталий Борисович (книги хорошего качества .txt, .fb2) 📗
Часто мне случалось слышать, что преподавание истории нужно начинать не с начала, но с конца, т. е. не с древней, а с новейшей истории. Мысль эта, в сущности, совершенно справедлива. Как рассказывать ребенку и заинтересовать его началом государства Российского, когда он не знает, что́ такое государство Российское и вообще государство? Тот, кто имел дело с детьми, должен знать, что каждый русский ребенок твердо убежден, что весь мир есть такая же Россия, как и та, в которой он живет; точно так же французский и немецкий ребенок. Отчего у всех детей и даже у взрослых, детски-наивных людей, всегда является удивление, что немецкие дети говорят по-немецки?.. Исторический интерес большею частию является после интереса художественного. […] Нам интересно основание Московского царства, потому что знаем, что́ такое Русская империя. По моим наблюдениям и опыту, первый зародыш исторического интереса проявляется вследствие познания современной истории, иногда участия в ней, вследствие политического интереса, политических мнений, споров, чтения газет, и потому мысль начинать историю с настоящего естественно должна представиться всякому думающему учителю» (8, 95–96).
Оба писателя, как видим, исходили из необходимости глубокого подхода к изучению с детьми русской истории, но каждый предлагал свой путь решения проблемы. Достоевский рассматривал русскую историю как факт самобытного существования, который еще не стал достоянием всего человечества, но который рано или поздно скажется положительно на развитии западной цивилизации. Толстой считал важным изучать русскую историю, исходя из контекста современной действительности, жизни всего человечества. Казалось бы, разница невелика, но она принципиальна по сути.

Фридрих Фрёбель
«Возьмем хоть Фрёбеля [15], порешили циркулярами [16]. Циркулярами порешать легко. Педагогические съезды, курсы, средине легко. Ломай матерьял.
Правда ли, что у нас, если гимназист выключен, то не принимают нигде? [17]
Прошиб голову. Лев Толстой. Исключить [18]. […]
Побольше человеческого отношения…» (XXII, 148).

Иоганн Песталоцци. Оба писателя проявляли особый интерес к трудам выдающегося педагога, однако избирали свой путь решения проблем
«О Песталоцци [19], о Фрёбеле. Статью Льва Толстого о школьном современном обучении в «От(ечественных) зап(исках)» (75 или 74) […]
Участвовать в фребелевской прогулке. См. «Новое время», среда, 12 апреля, № 762». (1) (XV, 199).
«От этого происходит, что наша педагогическая литература завалена руководствами для наглядного обучения, для предметных уроков, руководствами, как вести детские сады (одно из самых безобразных порождений новой педагогии), картинами, книгами для чтения, в которых повторяются всё те же и те же статьи о лисице, о тетереве, те же стихи, для чего-то написанные прозой, в разных перемещениях и с разными объяснениями; но у нас нет ни одной новой статьи для детского чтения, ни одной грамматики русской, ни славянской, ни славянского лексикона, ни арифметики, ни географии, ни истории для народных школ. Все силы поглощены на руководства к обучению детей тому, чему не нужно и нельзя учить детей в школе, чему все дети учатся из жизни. И понятно, что книги этого рода могут являться без конца» (17, 93).
«Начиная с 1862 года, в народе у нас все больше и больше стала укрепляться мысль о том, что нужна грамота (образование); с разных сторон, у церковнослужителей, у наемных учителей, при обществах учреждались школы. Дурные или хорошие школы, — но они были самородные и вырастали прямо из потребности народа; со введением положения 1864 года настроение это еще усилилось, и в 1870-м году в Крапивенском уезде по отчетам было до 60 школ. С тех пор как в заведывание школьного дела стали влипать более и более чиновники министерства и члены земств, в Крапивенском уезде закрыто 40 школ и запрещено открывать новые школы низшего разбора. Я знаю, что те, которые закрыли школы, утверждают, что школы эти существовали только номинально и были очень дурны; но я не могу верить этому потому, что из трех деревень: Тросны, Ламинцова и Ясной Поляны, мне известны хорошо обученные грамоте ученики, а школы эти закрыты. Я знаю тоже, что многим покажется непонятным, что́ такое значит: воспрещено открывать школы. Это значит то, что на основании циркуляра министерства просвещения о том, чтобы не допускать учителей ненадежных (что́, вероятно, относилось к нигилистам), училищный совет наложил запрещение на мелкие школы, у дьячков, солдат и т. п., которые крестьяне сами открывали и которые, вероятно, не подходят под мысль циркуляра» (17, 114–115).
«После «Робинзона» я попробовал Пушкина, именно «Гробовщика»; но без помощи они могли его рассказать еще меньше, чем «Робинзона», и «Гробовщик» показался им еще скучнее. […] Я попробовал еще Гоголя: «Ночь перед Рождеством». При моем чтении она сначала понравилась, особенно взрослым, но как только я оставил их одних, — они ничего не могли понять и скучали. Даже и при моем чтении не требовали продолжения. […]. Я пробовал еще читать «Илиаду» Гнедича, и чтение это породило только какое-то странное недоумение […] Я пробовал «Грибуля» Жорж Занда, «Народное» и «Солдатское чтение» — и все напрасно. Мы пробуем все, что можем найти, и все, что присылают нам, но пробуем теперь почти безнадежно. Сидишь в школе и распечатываешь принесенную с почты мнимо-народную книгу. «Дяденька, мне дай почитать, мне! — кричат несколько голосов, протягивая руки, — да чтобы попонятнее было!» […] Дашь кому-нибудь из ребят такую книжку, — глаза начинают потухать, начинают позевывать. «Нет, непонятно, Лев Николаевич», — скажет он и возвращает книгу. И для кого, и кем пишутся эти народные книги? — остается для нас тайною. […] Единственные же книги, понятные для народа и по его вкусу, суть книги, писанные не для народа, а из народа, а именно: сказки, пословицы, сборники песен, легенд, стихов, загадок, в последнее время сборник Водовозова и т. п. Нельзя поверить, не испытав этого, с какою постоянной новой охотой читаются все без исключения подобного рода книги — даже «Сказания Русского народа», былины и песенники, пословицы Снегирева, летописи и все без исключения памятники древней литературы. Я заметил, что дети имеют более охоты, чем взрослые, к чтению такого рода книг; они перечитывают их по нескольку раз, заучивают наизусть, с наслаждением уносят на дом и в играх и разговорах дают друг другу прозвища из древних былин и песен» (8, 59–61).