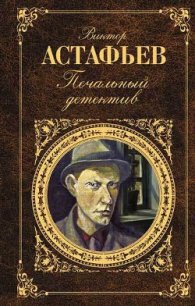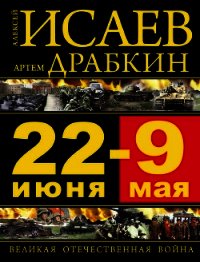Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В 3-х томах. Том 3. - Каменецкий Евгений
«Быстрее, быстрее!» — торопило командование. Потому что уже полностью освобождена Варшава, другие польские города и села, и везде надо было не мешкать в проверке, очистке временно оккупированной, временно опоганенной территории, всего того, что осталось на ней пригодного для жизни. И везде польские жители ждали обнадеживающего: «Проверено. Мин нет» — или совсем короткого: «Разминировано» — с автографами тех, кто это сделал, кто, рискуя жизнью, снимал затаившуюся коварную смерть.
И разгадывали, и очищали Варшаву, как прежде другие города и села, от беды. Но одного не мог понять Горяйнов, охватить своим разумом, своим чувством: как можно подкладывать мину, фугас под жизнь беззащитного, ни в чем не повинного ребенка? Ведь не мог же не знать немецкий сапер, протягивая тонкую проволоку от ножки куклы до взрывателя спрятанного под полом толового фугаса, что первой потянется к своей кукле малышка-девчонка, стало быть, и первой оборвется ее жизнь. Как же можно так спокойно, с ухмылкой планировать эту детскую смерть? Зачем? Для какой надобности? В каких военных целях? Ну, ты враг. Это понятно. Но неужели в тебе нет ничего человеческого?
Совсем стемнело. И оттого ярче плескались вокруг языки пламени. Где-то впереди, в отдаленной части города поднялся яркий гриб огня, высветив до белизны развалины домов и лица идущих бойцов, через секунду-другую громоподобный удар всколыхнул воздух, заколебался черный остов высокого, догорающего здания, часть его стены надломилась и с каменным грохотом осела.
«Может, сработал часовой механизм авиабомбы, а может, минный фугас рванул», — подумал сержант Горяйнов.
— Как считаешь, Пикус? — словно продолжая разговор с ефрейтором, спросил сержант, чуть сбавив шаг.
Пикус не отозвался. Который день молчит. С тех пор, как получил от односельчан из родной своей Белоруссии черную весть.
Немецкие каратели жестоко пытали, потом повесили его жену, синеглазую Любашу, за связь с партизанским отрядом. Фашистские палачи на рассвете подожгли избу, в которой она жила с больной матерью Пикуса и его дедом Василием. Дед пытался вытащить из горящей избы через окно парализованную женщину, но их встретили пули карателей.
Почернел, сжался в нервный комок ефрейтор Пикус. Несколько дней был как во сне. В боях на подступах к Варшаве разведчики с участием саперов захватили в ночной вылазке немецкого «языка» — рослого, самоуверенного ефрейтора-мотоциклиста. Радостно возбужденные удачливой «охотой», они подшутили над Пикусом: «Пообщайся тут с арийцем, авось найдешь с ним общий язык, может, расколется, зараза, а то словно язык проглотил…»
Пикус остался под соснами наедине с пленным. И тут разжалась нервная пружина, толкнула бойца на крутое действие.
— Гадюка, это ты моих там вешал и палил? Ты? — свистящим шепотом задышал он, вплотную приблизившись к нахально улыбающемуся немцу. — Ты! Ты! Ты, гадюка! Бачу по твоей бандитской харе! Ком! — И подтолкнул пленного к дальней сосне.
Все дальнейшее произошло в считанные секунды. Вмиг Пикус извлек из своей противогазной сумки тонкую и прочную веревку, прислонив пленного к дереву, туго обмотал его, затем выхватил из той же сумки толовую двухсотграммовую шашку, похожую на серый брусок мыла, бикфордов шнур, коробочку с капсулами-взрывателями — у хорошего сапера все эти причандалы всегда при нем… Сноровисто и умело толовый заряд был подготовлен и положен у ног немецкого ефрейтора. Вспыхнула зажигалка, шипяще стрельнул синими искрами подожженный Пикусом бикфордов шнур…
Что он хотел, каким намерением руководствовался? Ни в тот момент, ни после Пикус не нашел определенного ответа на этот вопрос. По-разному отвечал он сам себе, своим товарищам-саперам и разведчикам, а также лейтенанту Яньшину, перед которым объяснялся, ожидая строгого наказания.
«Он, гадюка, все время лыбился… Вот и захотелось мне побачить, як он будет себя чувствовать, коли под носом смерть зашипит…» «Да не-е… Убивать его самосудом я не хотел… Как-никак пленный…» «А вообще-то расчахнул бы гадюку… За все то, что они натворили, расплатился бы хоть трошки».
По-разному говорил Пикус о роковой минуте, когда бикфордов шнур, тихо постреливая белым дымком, отсчитывал последние секунды в жизни пленного немца. Да и сам он, ефрейтор Пикус, не думая о себе, своей безопасности, стоял рядом, открыто.
На мертвенно-неподвижном лице пленного не дрогнул ни один мускул. Только глаза жили затаенным последним ожиданием. И вдруг по этому лицу потекли слезы — крупные, в горошинку. И его глаза были вполне человечьими, страдающими, горестно-отрешенными. Ни мольбы, ни просьбы не было в них. Они ни к кому не обращались. Они жили последние свои секунды. Может, и плакали они непроизвольно, не подчиняясь разуму, совести, памяти и не надеясь ни на что… Но они плакали чистыми, как у всякого человека, слезами. Может, такими же слезами плакали очи Любаши перед казнью, старенькие глаза хворой матери и деда, хотя последнее, что они видели и отражали, было вовсе не голубое небо, а жаркое, обжигающее душу и тело пламя горящей деревенской избы.
Слезы пленного немца дали новый толчок нервной, туго сжатой пружине, застывшей в сердце ефрейтора Пикуса. Не думая о тех последних секундах, что на исходе своего заданного срока отстреливали дымком сникшего бикфордова шнура, он подлетел к пленному, схватил из-под его ног холодновато-скользкий брусок тола и выдернул дымящийся шнур вместе с запалом-взрывателем. Еще секунда — и левая рука отбросила тол, а правая кинула взрыватель с остатками бикфордова шнура в другую сторону. Ефрейтор Пикус машинально прижался к пленному: он знал, какими опасными могут быть мелкие латунные осколки взрывателя, упавшего где-то рядом. Резкий, как пистолетный выстрел, щелчок и впрямь раздался совсем близко, подняв рой сухих хвоинок.
«Что такое? В чем дело?… — подбежали разведчики. — Кто стрелял? Ты зачем его так скрутил?»
Пикус молча развязал пленного…
Саперы вышли на небольшую площадь. Когда-то в центре ее был памятник, о чем напоминал каменный полуразрушенный постамент. Огни горящих домов в ближнем квартале холодно отражались на черно-гладкой поверхности постамента.
Вдруг сержант Горяйнов услышал звуки скрипки. Сначала в них не чувствовалось определенной мелодии, может, потому, что они заглушались грохотом идущей на запад военной техники, гулом солдатских колонн, гулом и треском горящих домов. И тем не менее пение скрипки все отчетливее выделялось в хаосе звуков прифронтового города, приковывая и обостряя слух и внимание Горяйнова и его товарищей своей необычностью и непонятностью. Что за странная музыка в горящем городе? Откуда она взялась?
— А ведь он, кажись, слепой, — услышал сержант Горяйнов голос ефрейтора Пикуса.
И только теперь Владимир заметил музыканта со скрипкой в руках. Он стоял на балконе второго этажа небольшого полуразрушенного, как и соседние строения, дома, с непокрытой тускло серебрящейся головой и, вскинув вверх сухое изможденное лицо в темных очках, играл страстно и самозабвенно, целиком, без остатка отдаваясь страсти творчества, той певучей нежности и тому призывному взлету, которые звучали в непонятной прекрасной мелодии скрипки.
Позже, продолжая разминировать западные районы Варшавы, Владимир Горяйнов узнает от коллег — польских саперов, что игравший в разрушенном городе скрипач — известный в Польше музыкант, активный боец варшавского антифашистского подполья. Несколько недель провел он в гестаповских застенках, где его жестоко пытали, выкололи глаза. Восставшие патриоты спасли его, надежно спрятали, стремясь сохранить для польского народа, всего мира его талант, его прекрасную музыку.
А в этот чадно-дымный, освещенный огнями пожаров январский вечер, идя в походном строю среди городских развалин и пепла, сержант Горяйнов был захвачен чарующей мелодией, чувствовал, как она заполняет все его существо, окрыляет, делает шаг легким, раскованным, устремленным.