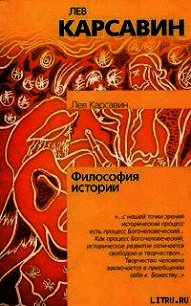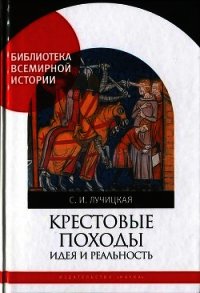Идея истории. Автобиография - Коллингвуд Роберт Джордж (читать бесплатно книги без сокращений .txt) 📗
Я не винюсь в том, что испытывал в ту пору чувство юношеской неуверенности. В 40 лет я бы ни минуты не колебался и немедленно порвал бы всякие связи со школой мысли, лидеры которой допускают такие грубые фактические ошибки по столь важным вопросам. В 22 или 23 года, однако, я рассуждал иначе и подыскивал какие-то оправдания. Я убеждал себя, что «реалисты» преподавали философию, а не историю, что как представители философской критики в строгом смысле слова они должны были выявлять истинность или неистинность той или иной доктрины, что они и делали в данном случае великолепно. Что же касается их исторических ошибок, касающихся того, придерживался данный автор таких взглядов или нет, то какую бы тревогу они у меня ни вызывали, они никак не влияли на истинность их собственной философии. Я считал себя логически обязанным оставаться «реалистом» до тех пор, пока не удостоверюсь, что либо позитивная доктрина этой школы ложна, либо ее критические методы неверны.
Я не поднимал всех этих вопросов, пока не получил степень и не приступил к работе в качестве преподавателя философии. И тогда мне стало ясно, что, с точки зрения соотношения методов и доктрин моих «реалистических» коллег, позитивная доктрина самого Кука Вилсона не выдержит атаки его собственного критического метода. Если бы у него позитивное учение и критические методы были логически взаимосвязаны, это было бы фатально и для того, и для другого. Но такой связи могло и не быть. Позитивное учение могло быть ошибочным, а критические методы — верными, или наоборот. Выбор правильного решения между этими тремя возможностями — вот чем я занимался в 1914 г., когда война прервала нашу академическую жизнь.
Между тем я наполовину неосознанно подготавливал фланговую атаку на ту же самую школу. Став преподавателем философии, я не забросил исторических и археологических занятий. Каждое лето я работал в каких-то крупных археологических партиях, а с 1913 г. сам возглавлял раскопки. Раскопки стали одним из самых больших наслаждений моей жизни. В свое время я научился руководить школьниками, теперь я должен был руководить рабочими, заботиться об их нуждах и здоровье, понимать их отношение к решению нашей общей задачи и помогать им понять мое собственное. Занимаясь раскопками, я неожиданно для себя оказался включенным в своеобразную экспериментальную работу лаборатории мысли. Сначала я задавал себе очень неопределенные вопросы типа: «Было ли на этом месте поселение эпохи Флавиев?» Затем этот вопрос делился на ряд подвопросов, которые принимали, например, такую форму: «Появились ли эти флавиевские черепки и монеты в более поздний период или в то же самое время, которым они датируются?»
Я рассматривал все возможные решения, проверял их одно за другим до тех пор, пока не смог сказать себе: «Да, здесь в эпоху Флавиев действительно было поселение; здесь в А±В году действительно был построен земляной и деревянный форт, имевший такой-то план, и этот форт был оставлен по таким-то и таким-то причинам в X±Y году». Опыт мыслительной работы подобного рода скоро научил меня, что вообще ничего нельзя найти, если заранее не поставить вопроса, причем вопроса не расплывчатого, а вполне определенного. Когда люди копают, просто говоря: «Давайте-ка посмотрим, что тут есть», — то они ничего не узнают или же что-то узнают случайно лишь постольку, поскольку при раскопках у них возникают столь же случайные вопросы: «Является ли этот черный грунт торфяником или культурным слоем? Что это — пастушеский посох? Эти отдельные камни — остатки разрушенной стены?» То, что открывает археолог, зависит не только от того, что оказывается на месте раскопок, но и от того, какие он задает себе вопросы. Поэтому человек, задающий себе вопросы одного рода, узнает из находок одно, человек, ставящий вопросы иного рода, — другое, третий впадает в ошибку, а четвертому находка вообще ничего не говорит.
Занимаясь историческими исследованиями, я лишь открыл для себя те принципы, которые Бэкон и Декарт установили уже 300 лет назад в отношении естественных наук. Оба они совершенно недвусмысленно утверждали, что знание приходит только тогда, когда отвечают на вопросы, причем вопросы должны быть правильными и поставлены в надлежащем порядке. Я часто раньше читал их работы, где говорилось об этом, но не понимал их, пока сам не дошел до этой истины.
Оксфордские «реалисты» говорили о знании так, как если бы оно было простой «интуицией», простым «восприятием» «реальности». Мне казалось, что в Кембридже Мур выражал ту же самую концепцию, говоря о «прозрачности» акта познания; тому же в Манчестере учил Александер, характеризовавший познание как простое «соприсутствие» двух объектов, одним из которых является дух. Все эти «реалисты», полагал я, не утверждали, что состояние познания пассивно, но они считали его «простым» состоянием, таким, в котором нет сложностей или каких-то различий, ничего, кроме него самого. Они признавали, что человек, желающий познать что-то, должен работать (зачастую применяя очень сложные методы), чтобы занять то «положение», из которого объект его познания мог бы быть «воспринят»: но, коль скоро он занимал такую позицию, ему оставалось либо «воспринять» свой объект, либо «иногда» потерпеть неудачу.
Эта доктрина, приобретавшая известное правдоподобие, когда приводились такие примеры познавательных утверждений, как «эта роза красная» или «моя рука покоится на столе», утверждений, при которых тривиальность умственных операций, породивших их, приводит к тому, что эти операции если не презирают, то во всяком случае забывают, — была совершенно несовместима с тем, что я узнал в моей «лаборатории» исторической мысли. Умственная деятельность, выражающаяся в постановке вопросов, как я назвал работу историка, не была нацелена на то, чтобы добиться известного соприсутствия ума и объекта, его восприятия; она составляла ровно половину акта (другой половиной были ответы на поставленные вопросы), который в целом и представляет собой познание.
Положение, в котором я оказался в тот период моего философского развития, могло бы, как мне казалось, быть охарактеризовано следующим образом. Я был достаточно хорошо натренирован в духе «реалистического» метода, чтобы точно знать, какой ответ мне мог бы дать любой «реалист», с которым я поделился бы сомнениями о приемлемости реалистической теории познания для исторического знания. Сам Кук Вилсон заявил мне однажды: «Я скажу Вам кое-что о Вас самих: у Вас дар видеть очевидное». И мне было совершенно ясно, что возможный ответ «реалиста» на мои затруднения был бы всего лишь попыткой заговорить меня.
В своей преподавательской работе я выработал линию, в общем соответствующую тому, о чем я уже говорил. Сначала я решил (в то время я мыслил очень просто), что курс философии в Оксфорде нуждается в фундаменте здоровой эрудиции, в таких навыках мысли, которые сделали бы невозможным для студента, получившего философское образование в Оксфорде, обманываться насчет достоинств «опровержения» Беркли Муром или же Брэдли Куком Вилсоном. Поэтому я учил больше на примерах, чем проповедями, никогда не принимать на веру услышанную или прочитанную критику любой философской системы, не удостоверившись из первых рук, что опровергаемая философия является именно такой, какой ее представляют. Я говорил ученикам, что они должны воздерживаться от собственной критики до тех пор, пока не будут абсолютно уверены, что поняли текст, который критикуют, а если критика будет отложена на неопределенное время, то это не так уж и важно.
Все это еще не предполагало каких бы то ни было выступлений против «реалистических» методов критики. Когда мои ученики приходили ко мне, вооруженные какими-то совершенно не относящимися к делу опровержениями этической теории Канта, и говорили, что они вынесли их из лекции такого-то и такого-то, то мне было совершенно безразлично, было ли это плодом их непонимания чьих-то лекций или чьего-то непонимания Канта. В обоих случаях я обращался к соответствующей книге со словами: «Давайте посмотрим, действительно ли Кант это говорил».