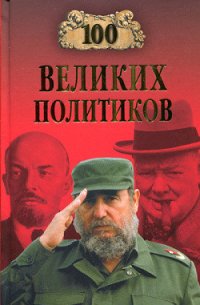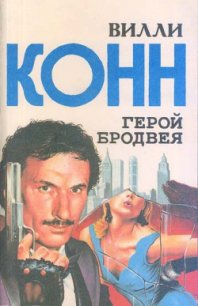Воспоминания - Брандт Вилли (читать книги онлайн без сокращений TXT) 📗
Кто был за Михаила Сергеевича Горбачева и кто против? Расстановка сил через три или четыре года после его вступления в должность вряд ли изменилась. Его основная опора — это интеллигенция, ученые, деятели искусства, молодые работники партийного аппарата и государственного управления, сознающие необходимость реформ. «Трудящиеся», в массе своей, выжидали, а то и роптали, тем более что положение со снабжением скорее ухудшилось, чем улучшилось, а борьба с алкоголизмом — объективно необходимая — воспринималась как бесполезное занятие. Военное руководство, демонстрируя свою лояльность, действовало искренне: у него были свои интересы в обновлении экономики. Брежнев за несколько недель до смерти созвал видных представителей вооруженных сил и сообщил им, что растущие военные расходы вступили в конфликт с реальными экономическими прибылями. Перенес ли КГБ — орган, ведающий вопросами государственной безопасности, — уважение к своему бывшему шефу Юрию Андропову на Горбачева или отстранился от него, для постороннего наблюдателя осталось неизвестным. Да и кто может за пределами Советского Союза знать то, что и внутри-то этой страны является сплошной загадкой?
Так как Горбачеву много чего пришлось выбросить за борт (как он того и хотел), он стал спешно искать для себя твердую опору. Этой твердыней мог быть не кто иной, как Ленин, знаменосец русских большевиков и родоначальник Советского Союза. Он ссылался на «старика», его новую экономическую политику, которая должна была прийти на смену военному коммунизму, и его предостережения относительно Сталина, которые долгое время замалчивали. Нет ничего удивительного в том, что «старику» приходилось расплачиваться за различные избитые мысли: следует различать общие и конкретные вопросы; правильная политика — это принципиальная политика; коммунистом можно стать лишь тогда, когда усвоишь все богатства прошлого; необходимо полемизировать с противниками, потому что тогда яснее видишь слабости собственной позиции…
Умные люди, в которых нет недостатка и в Советском Союзе, вряд ли поймут, почему при упоминании имени Ленина должны прекратиться размышления и расспросы? Мысли и дела Ленина тоже не могут долго оставаться неприкосновенными, и их нельзя оградить от критической оценки. Везде, где происходит расширение демократии, старые механизмы управления не срабатывают. В Советском Союзе первоначальная попытка ограничить перестройку, с одной стороны, оживлением экономики, а с другой — ликвидацией вопиющего господства насилия также окончилась неудачей. Если внутренняя динамика процесса демократизации с трудом поддавалась оценке, то бедственное положение со снабжением загадывало прямо-таки загадки.
Трудно понять, почему советское сельское хозяйство через семьдесят лет после свержения царизма находится в столь плачевном состоянии; почему гибнет более 30 процентов урожая, не дойдя до потребителя; почему уходит так много времени на реализацию идей? Ни одна современная экономика не может обойтись без хозрасчета и без живительных импульсов рынка, как и без шансов на получение прибыли. Горбачев страстно говорил о трудной задаче сокращения какой-то части из восемнадцати миллионов государственных служащих и перевода их в сферу производительного труда. Он не скрывал, что в рядах бюрократии растут недовольство и несогласие. Мне было неясно, удастся ли преодолеть это сопротивление, а если да, то каким образом. Но я ни секунды не сомневался в том, что мы должны желать всяческого успеха реформам и реформатору.
Я был глубоко взволнован, когда в апреле 1988 года, едва приехав, услышал о реабилитации и Карла Радека, того самого польского коммуниста с частично немецким происхождением, который на одном из сталинских процессов избежал смертного приговора, но затем погиб в лагере.
Глубоко взволновало меня также известие, что шесть тысяч лежавших в спецхранах книг снова предоставлены в распоряжение историков. Официальное восстановление чести и достоинства жертв террора и беспощадное разоблачение того, что пришлось пережить при сталинском режиме немецким и другим эмигрантам, я нашел в высшей степени достойным одобрения, и не в последнюю очередь из-за их семей. Но я не мог понять, почему в поисках истины с таким рвением пытались установить, ошибался ли такой человек, как старый большевик Николай Бухарин, которого Ленин называл «любимцем партии», в таком-то году меньше, чем в другом. Почему бы не дать разобраться во всем этом историкам? Зачем снова заходить в тупик? Если партия и впредь собирается определять, что истории подтверждать, а что отклонять, то до демократии еще очень далеко. Горбачев в 1987 году, идя гораздо дальше Хрущева, назвал те «настоящие преступления», жертвами которых стали тысячи советских людей. Вина Сталина и его окружения огромна и непростительна, сказал он, «это, товарищи, горькая правда». Горькой в большинстве случаев бывает правда, которую не все хотят слышать. Однако значение того, что сделало новое московское руководство для нравственности в Советском Союзе и у его союзников, вряд ли можно переоценить.
Разговор с глазу на глаз во время визита в мае 1985 года мне особенно запомнился той откровенностью, с которой Горбачев отвечал на вопросы, по привычке называемые «гуманитарными». Я сказал, что на этот раз у меня три папки, полные петиций. Он кивнул. В первой папке, сказал я, дела лиц немецкого происхождения, ходатайствующих о воссоединении семей; некоторые просьбы уже удовлетворены. Он снова кивнул. Вторая папка, сказал я, содержит дела советских граждан, оказавшихся в тяжелом положении. У нас их называют диссидентами. Он опять кивнул. В третьей папке, сказал я, лежат просьбы о выезде евреев; родственники, живущие у нас и в Израиле, а также из Советского Союза прислали мне письма. Когда я в последний раз в Москве решился изложить подобные дела, меня довольно резко отчитали. Брежнев в 1981 году: «Я знаю, что у вас много должностей, но не пытайтесь убедить меня в том, что вы стали еще президентом Всемирного еврейского конгресса вместо Наума Гольдмана». Иначе Горбачев: «Кого вы уполномочите обсудить завтра в первой половине дня все эти дела с выделенным мной человеком?» Так оно и случилось, и наши сотрудники смогли помочь урегулированию многих дел, связанных с правами человека, прежде чем улучшилось общее положение.
Кто может сегодня измерить всю важность тех событий, когда были освобождены жертвы произвола, когда можно было посетить Андрея Сахарова в его московской квартире, когда укрепились правовая безопасность, а также свобода мнений и вероисповедания, когда состоялись демократические выборы, какими бы несовершенными они ни были, когда можно было открыто говорить о масштабах террора и лжи, выходящих далеко за пределы нормального понимания. Хорошим признаком нормализации было то, что рассказал мне в 1988 году один почтенный публицист. Его взрослая дочь спросила: «Отец, ведь ты не мог не знать о преступлениях, о которых теперь так много пишут? Почему же ты мне ничего об этом не говорил?» Я невысокого мнения о поверхностных сравнениях, но не кажутся ли вам подобные вопросы очень знакомыми?
Было нелегко увязать воедино весь круг возникших проблем. Но революции обретают форму не на чертежной доске, а в сердцах и умах людей, ее совершающих. Они готовы смириться с системой даже тогда, когда совершенно очевидна ее абсурдность, и с угнетением национального свойства, когда гнев достигает высшей точки. Но неожиданно какое-то событие на периферии становится той каплей, которая переполняет чашу терпения, и создается огромная напряженность, о которой вряд ли кто догадывался, каким образом и как долго она накапливалась. Когда бунтовал Кавказ, да и в других регионах происходили столкновения на межнациональной почве, Генеральный секретарь ошеломил меня своей рассудительностью, сказав, что ему спокойнее, когда проблемы лежат на столе, а не под столом. Несомненно, национальным культурам в Советском Союзе должны быть предоставлены большие возможности для свободного развития. Было очевидно, что манифестации в Прибалтике, исполненные собственного достоинства и вместе с тем самообладания, вызывают особый интерес в Германии и Скандинавии. Советский Союз становится все более европейской страной. Тем не менее необходимо понимать, что уже к концу тысячелетия в нем будут преобладать — по крайней мере численно — нерусские национальности. Возникают все новые вопросы, не ответив на которые, нельзя строить «общеевропейский дом».