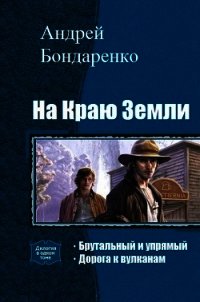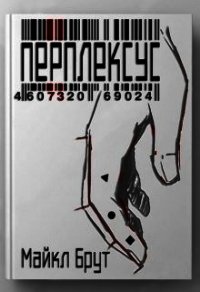Брут - Берне Анна (лучшие книги TXT) 📗
В рядах легионеров раздался недовольный ропот. Почему такая несправедливость? Люди Кассия удирали, как зайцы, а их осыпают подарками! Бойцы вспомогательных кавалерийских отрядов, служившие исключительно за плату, и вовсе пришли в негодование.
В результате между легионами Брута и бывшими легионами Кассия возникло что-то вроде завистливого недоброжелательства. Как много дней или даже недель понадобится, чтобы эти люди снова ощутили себя соратниками, бойцами единой армии?
Как ни странно, но члены ставки Кассия, казалось бы, пережившие немалое унижение, не выказывали ни малейших признаков вины. Они вели себя все так же вызывающе высокомерно, как прежде, всем своим видом демонстрируя, что не считают для себя обязательным подчиняться приказам Брута. Порой Марку чудилось, что юный Валерий Мессала едва ли не готов взять на себя роль преемника Кассия.
Пытаться с такой армией разгромить объединенные силы Антония и Октавия? Это немыслимо.
Антоний, конечно, легко догадался, с какими трудностями столкнулся Брут. Он, прослуживший в армии долгие годы, хорошо знал эту публику. Теперь он видел свою задачу в том, чтобы максимально использовать открывшиеся преимущества. Провести еще одно сражение, но на сей раз захватив всю инициативу в свои руки. Впрочем, иного выхода у него и не оставалось.
Если до последнего времени стояла теплая и сухая погода, то практически сразу после первого сражения зарядили холодные осенние дожди. Люди и животные передвигались, утопая в густой грязи. Продержаться полгода в таких условиях армия триумвиров, оторванная от тылов, без надежной системы снабжения, не смогла бы ни в коем случае. Кроме того, они потеряли 15 тысяч воинов и нуждались в подкреплениях. Антоний знал, что из Рима к ним на подмогу движутся два свежих легиона, в том числе знаменитый Марсов легион — отборный отряд, состоявший из лучших бойцов Цезаревых походов. Время шло, а подкрепления все не появлялись. Антоний уже беспокоился. На море по-прежнему хозяйничали Мурк и Домиций Агенобарб. Неужели они потопили отправленную из Рима эскадру?
Именно это и произошло 3 октября. В тот самый час, когда Брут праздновал победу над войском Октавия. Но сам Марк так никогда и не узнал об этом приятном для него событии. Антоний позаботился о том, чтобы ни один гонец не мог проникнуть в лагерь республиканцев. Ведь если бы Бруту стало известно, что триумвирам больше неоткуда ждать помощи, он любой ценой затянул бы войну и спокойно дождался, пока голод, зима и полная деморализация без него уничтожат врага.
Отныне исход столкновения зависел от того, у кого нервы окажутся крепче. Антоний сделал ставку на неопытность Брута. Постоянными мелкими провокациями он рассчитывал вывести того из терпения и заставить принять бой. Бой, который принесет ему победу.
Он последовательно и неустанно проводил разработанный план в жизнь. Не проходило и дня без того, чтобы легионы Антония и Октавия не выстраивались на равнине, приглашая противника к схватке. Брут не поддавался. Но провокации продолжались. Из лагеря триумвиров в адрес республиканцев неслись ругательства и оскорбления. «Жалкие трусы! — кричали им вражеские легионеры. — Тряпки! Бабы!» Записки самого гнусного содержания сыпались на них дождем. Некоторые из них были поименно обращены к конкретным людям: многих воинов с той и другой стороны связывали личное знакомство и взаимная ненависть.
Бруту все это казалось диким. Да, он поднял оружие против соотечественников, потому что видел в этом свой долг, потому что Город, не выдержав раздиравших его внутренних противоречий, раскололся на два враждующих лагеря. Но зачем поливать друг друга грязью? Если бы все зависело только от него, он предпочел бы разрешить конфликт малой кровью, сохранив в живых как можно больше солдат, воевавших против него. Он, конечно, давно убедился в правоте Цицерона, предупреждавшего его, чтобы он не ждал от врага пощады. Он принимал это как данность, себя же изменить не мог.
Даже среди своих соратников он наталкивался на полное непонимание. Почему, теребили они его, ты не прикажешь казнить всех пленных?
Пленные вообще стали для Брута серьезной проблемой. Он опасался, как бы его подчиненные потихоньку не перебили их, и выделил им надежную охрану. Затем он отобрал тех из них, на кого из соображений личной мести особенно точили зубы его помощники, и отпустил восвояси. Затем освободил всех римских граждан, всех италийцев, всех свободнорожденных. Тем, кто выразил желание перейти под его знамена, он дал такую возможность. Таких нашлось немного. Остальным он сказал:
— Вы думаете, что я держу вас в плену. Вы ошибаетесь. Вот когда вы вернетесь на другую сторону, тогда и попадете в настоящий плен. Там из вас сделают рабов и лишат настоящей свободы. У меня же все — свободные граждане.
В этих словах нашла выражение римская политическая философия, послужившая основой для основания Республики, как ее понимали в Риме. Римлянин мыслил себя свободным человеком, и это подразумевало, что он имеет все права свободного гражданина. Утрачивая какие-либо из этих прав, он терял свободу, следовательно, переставал быть человеком. Лучше смерть, чем такая судьба, — такого кредо придерживались римляне. Разумеется, в действительности их политическая система зиждилась на власти олигархии и аристократии и не имела ничего общего с подлинной демократией — большинство плебеев никогда не допускались к избирательным урнам, а голоса остальных покупались, но миф о римской свободе жил на протяжении столетий. Правда, в последние годы он заметно пошатнулся, так что веру в него сохраняли лишь отдельные представители древней аристократии да юные идеалисты. Поэтому все речи Брута о свободе звучали словно в пустоте. Неужели его ничему не научил горький опыт Мартовских ид?
Понимал ли он, что возрождение старой системы невозможно? Или продолжал верить, что с гибелью республиканского строя и самому Риму придет конец? Наверное, продолжал. Ибо для него такие слова, как Рим, Республика и Свобода, всегда звучали синонимами.
И он знал: что бы ни случилось, он пойдет до конца.
В отношении Брута к свободе проявился лишь один из парадоксов его личности. Необычно для своего жестокого времени чуткий к другим людям, не приемлющий свойственной большинству современников расчетливой жестокости, способный к состраданию, искренне верящий в Провидение, одним словом, обладающий качествами, которые лишь в следующем столетии, вместе с зарождающимся христианством, обретут распространение, Брут вместе с тем оставался носителем всех предрассудков того мира, в котором жил. Он никогда не отдавал себе отчета, что та великая свобода, за которую он боролся и ради которой готов был умереть, в его идеальном Риме являла собой привилегию элиты. Сохранение или исчезновение этой свободы нисколько не волновало широкие массы плебеев, поскольку не касалось их ни в малейшей степени. Другая странность заключалась в его отношении к рабству. Брут никогда не ставил под сомнение разумность института рабовладения. Он вполне разделял господствующее в его среде мнение о том, что раб — это не человек, а вещь. Раба можно купить и продать, его можно подвергнуть насилию, можно бить, можно даже убить — и все это на вполне законных основаниях. Да, сам Брут относился к своим рабам безо всякой жестокости. Но он, как и его современники, хранил твердое убеждение в том, что человеческое достоинство неразрывно связано со свободой. Рожденный в рабских цепях никогда не станет полноценным человеком, даже если обретет свободу. Рабский дух останется в нем навечно. Воин, захваченный в плен и проданный в рабство, теряет право именоваться человеком. В чем его вина? В том, что он не сумел защитить свою свободу и не предпочел гибель рабству. Кстати сказать, именно это убеждение заставляло римлян с уважением относиться к гладиаторам. Выходя на арену, гладиатор отважно бросал вызов смерти, следовательно, вновь обретал утраченное человеческое достоинство.
Вот почему к убийству рабов Брут относился совсем не так, как к казни свободных граждан или союзников Рима. Приказ перебить сотни захваченных в плен рабов он отдал совершенно хладнокровно, не мучаясь угрызениями совести [174]. И вздохнул с облегчением, избавившись от необходимости заботиться о пропитании этих людей. Оставить их себе он не мог, поскольку сомневался в их верности, а вернуть противнику счел бы величайшей глупостью. Кто же отдает врагу захваченное у него оружие и коней?