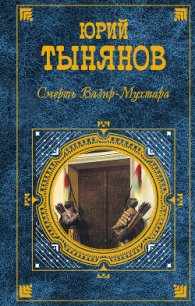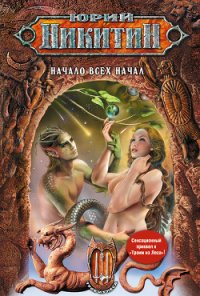Пушкин - Тынянов Юрий Николаевич (чтение книг .txt) 📗
Александр выздоравливал медленно – и от болезни и от адских поэм. В лазаретное окно были видны верхушки деревьев. Он украдкой читал Батюшкова:
Эти стихи о Москве, это повторение трогало его неизъяснимо, он не мог понять почему и долго потом лежал, уткнувшись в подушку; слезы текли у него – непонятные, ибо эти стихи были вовсе не чувствительны. Это была довольно точная картина сожженной Москвы, которую Батюшков впервые увидел.
Его навещали друзья: пришел Дельвиг и поцеловал его в лоб.
У Дельвига была страсть: воспоминания. Откуда они брались – бог весть. Всегда он был очевидцем событий, о которых рассказывал. Он рассказал теперь Александру об инвалиде, с которым давеча повстречался гуляя. Служивый был ранен в бою, долго лежал в гошпитале и брел издалека. Он рассказал Дельвигу, как однажды ночевал под Курском в поле. Пенье курских соловьев Дельвиг описал, впрочем, с подробностями, не оставлявшими сомнений, что и он их слышал.
Дельвиг был поэт изустный. Под конец он и сам верил всему, что наговорил. Стоило спросить его, как он спал, и Дельвиг сразу рассказывал, что ему снилось. Сон придумывался тут же. Он не был болтлив. Живейшее его наслаждение было, прикорнув у печки, в уголке, слушать других и вставлять изредка словечко. Так он вставлял в куплеты, сочиняемые сообща, целые строки. Он любил слушать стихи Александра, слух у него был точный; он указывал все лишнее. Сам же писал песни и выдавал их за подлинные, будто бы слышанные им в детстве. Более всего, казалось, любил он есть. Стихи, кажется, доставляли ему такое же наслаждение. Он медленно, ни с кем не разговаривая, ел у дядьки Леонтия мороженое, и во взгляде у него было то же понимание, что и при чтении стихов.
У Кошанского он был первым по латыни и читал с упоением латинские стихи; глаза его туманились. Если кто просил перевести, он всегда увертывался, не зная латинских слов или не желая лишать стихи прелести. Он не дочитывал книгу, которая его занимала, наслаждаясь тем, что не дочел до конца и может сам назначить судьбу всем героям. Он питал отвращение к бумаге, гусиным перьям, скрыпу их: труд был ему противен. Он с удивлением и тайным удовольствием часами следил за Александром из темного уголка, когда тот писал стихи: зачеркивал, стиснув зубы, смотрел потерянным взглядом вокруг и наконец с досадою бросал перо.
С улыбкою он простился: поцеловал в лоб Александра и пошел рассказывать все, что выдумал только что, Юдину. Юдин подшучивал над ним, а Дельвиг отвечал ему на недоверчивые вопросы со спокойствием, которое ставило шутника в тупик, а выдумщику доставляло удовольствие. Время у Дельвига было все заполнено.
Посетил его и Горчаков. Он рассказал о светских новостях: кажется. Толстой скоро дает спектакль и хочет пригласить всех лицейских. Скоро к нему в гости собирается его сестра Елена. Елена хороша, скоро выходит замуж, но так ленива, что, кажется, в жизни не исписала ни одного листка бумаги. Он охотно рассказывал о сестре. Сестра была не только ленива, но и проказлива. Дядюшка Пещуров имел слабость, которая теперь уж не часто встречается: нюхал табак. И что же? Елена пристрастилась к табаку. Ее наказали, но она невеста, и наказания на нее поэтому более не действуют. Каково? Нет ли новых стихотворений?
Александр, еще бледный, больной, слушал Горчакова – и вдруг побледнел еще больше: он вспомнил, что в его келье остались обе поэмы, правда спрятанные. Он просил приятеля взять обе поэмы себе.
Вечером, перед сном, Горчакову удалось к нему проникнуть. Дядька Сазонов куда?то исчез на ночь, и Александр лежал один в палате. Обе поэмы были у Горчакова. Он прочел их. Поэмы ужасны, пагубны и могут навлечь бедствие не на одного Пушкина. В "Тени Баркова" он не понимал даже многих слов. Если бы нашли такую поэму здесь, в здании дворца, под носом у императора, Пушкина отдали бы в солдаты.
Александр спросил, смутясь: неужели обе поэмы показались ему такими? "Тень Баркова" он и сам считал слишком вольной, но "Монаха" по окончании и отделке он хотел послать в печать. Так невзначай он выдал Горчакову свое тайное желание: он надеялся увидеть поэму напечатанною, за тайной подписью: 1.14.16.
Горчаков покачал головой. Он удивлялся опрометчивости приятеля. Обе поэмы ужасны. Он с тайным наслаждением следил за лицом приятеля: впечатление было полное. Он еще раз повторил: его, может быть, и не отдали бы в солдаты, но сослали бы в отдаленный монастырь. Его выходки против седых игумений и монахов преступны. Его послали бы в монастырь, где он спал бы на каменных плитах. А лицей разогнали бы, закрыли, и все проклинали бы самое его имя. Горчаков увлекся. Преступление Александра было велико, пропасть, открывавшаяся перед ним, ужасна. Он, Горчаков, спасает его в последний раз, больше не удастся.
Обе поэмы он предлагает предать огню немедля: он сунет их в печь, как скоро дядька ее затопит.
Александр согласился, нимало не раздумывая. Картины, которые шепотом развивал перед ним Горчаков, полумрак, одиночество подействовали на него. Он был преступник. И не только потому, что смеялся над монахами – он не терпел их, так им и надо, – не потому, что осмеял женщин, а потому, что смеялся над стихами, которые были прекрасны, только чуть навязчивы. Самая память его мутных поэм была ему тяжела. Горчаков был прав: его сослали бы. Он стал бы вторым Вильоном, его имя стало бы неприлично, как имя Баркова. Куда завлекло его любопытство, желания, воображение, потерявшее узду!
Горчаков, довольный, тихо удалился; Сазонова еще не было, и никто его не заметил.
Александр не спал в эту ночь. Глубокий мрак стоял за окнами, тишина окружала его. Ржавая свеча оплывала. Старые часы пробили полночь, шипя. Он не боялся ни тюрьмы, ни монастыря: он убежал бы. Но молчание кругом было слишком глубоко, друзья далеки, он был один на всем свете. Он стал читать французскую книжку, которую принес ему тайком Дельвиг: "Пролаз литературный, сборник самых забавных случаев, исторических событий и стихов", и нехитрая французская книжка успокоила его.
Он рано проснулся. Слуга его, Сазонов, сидел рядом на своей кровати и, не видя, что он проснулся, тихонько чистил свою одежду. Одежда его была в грязи, соре, он пристально, неподвижным взглядом приглядывался к ней, снимая длинными пальцами соринки, пушинки. Потом, все так же не замечая, что Александр проснулся, он ощупал свои рукава и, покончив с этим, стал смотреть на свои руки, пристально, водя по ладони пальцем, как бы желая стереть следы ночного путешествия. Александр прикрыл глаза. Сазонов вдруг на него поглядел и бесшумно улегся. Через минуту он спал.
Назавтра все было кончено. Горчаков явился свежий, веселый, розовый и важно сказал приятелю, что тот может спать спокойно. Обе поэмы преданы огню. Никто, кроме него, об этом. не знает. Он нем, как смерть. Как любитель дел запутанных и негласных, Горчаков поступил так: поэму "Тень Баркова" он действительно бросил в печь; однако, чувствуя, что ему поручена важная тайна и что прелесть этого утратится, если никто, кроме него и Пушкина, не будет об этом знать, до того как сжечь, он под строгим секретом показал поэму Мише Яковлеву, паясу. Жадный взгляд паяса, изумление, восторг и ужас при чтении "Тени" – вознаградили его. У Яковлева была чудесная память, но он взял с него клятву забыть и стихи, и самое имя автора, и временного владельца поэмы. Так с этою поэмою было все покончено.
"Монаха" же, как более невинного, он завернул в толстую бумагу и запечатал собственным перстнем. Перстни не разрешали носить в лицее, но он хранил его, как дар тетушки, в бюро. Он ждал сестры. Сестре он собирался передать запретную поэму под видом секретных своих записок. Она должна была дать ему слово не распечатывать пакета и хранить у себя до его возвращения из лицея или смерти. Он обожал тайны. Впрочем, все было обдумано. Если бы тайна обнаружилась, опасность была бы не так велика: содержание второй поэмы было гораздо невиннее первой. Впечатление, произведенное на Пушкина рассказами о тюрьме, монастыре, будущей судьбе лицея, льстило ему. Всегда полезно хранить приятельские тайны: это дает какое?то влияние, какую?то власть над приятелем. Это очень приятно.