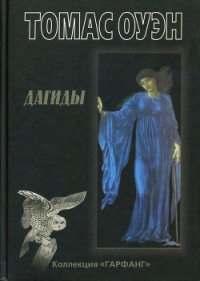Идти бестрепетно. Между литературой и жизнью - Водолазкин Евгений Германович (прочитать книгу TXT) 📗

Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Идти бестрепетно. Между литературой и жизнью - Водолазкин Евгений Германович (прочитать книгу TXT) 📗 краткое содержание
Идти бестрепетно. Между литературой и жизнью читать онлайн бесплатно
Евгений Германович Водолазкин
Идти бестрепетно: между литературой и жизнью
© Водолазкин Е.Г.
© ООО «Издательство АСТ»
Далеко-далеко…
Детский сад
Названием учреждения мы обязаны немецкому педагогу Фридриху Вильгельму Августу Фрёбелю, но первый детский сад задолго до него организовал Роберт Оуэн. Это был тот Роберт Оуэн, которого старшее поколение помнит по принудительному изучению научного коммунизма. Даже те, кто справедливо называл коммунизм антинаучным, знали, что именно у Оуэна Маркс позаимствовал какие-то глупости, которые легли в основу коммунистической теории. Так что, подобно другому неисправимому мечтателю, основатель детского сада может быть определен как тот самый Оуэн.
Попав в детский сад лет около трех, я, признаюсь, ничего не знал ни о Фрёбеле, ни об Оуэне, но сама идея собирать население на закрытой территории уже тогда вызывала мое отторжение. Лагеря – пионерские и другие, разного рода военные сборы, – всё это не рождало в душе моей радости. Еще меньше мне нравился коллективный труд – начиная с изготовления снежной бабы и оканчивая взрослыми масштабными задачами.
Не то чтобы я был против масштабных задач – нет, скорее, мне казалось (да и сейчас кажется), что они решаются путем персональных усилий. Мне могут возразить, что есть задачи, которые только коллективом и решаются – ну, скажем, создание большой снежной бабы. Здесь я, пожалуй, соглашусь. Да, большой снежной бабы в одиночку не слепишь. Но, может, и не нужна она такая? Мне кажется, я уже в детстве понимал, что для представительниц прекрасного пола размер – не главное.
В прежние годы было больше снега, и в детском саду мы только тем и занимались, что скатывали гигантские шары, толкая их втроем, а то и вчетвером. Тогда-то я осознал, что значит нарастать как снежный ком. Катимый нами ком с хрустом пожирал весь выпавший снег, оставляя за собой неровные, черные от прошлогодней листвы дорожки. Проблема состояла в том, что потом мы не могли поставить один ком на другой. Это было наказанием за гигантоманию. Сами себе мы напоминали Робинзона Крузо, вытесавшего лодку, которую не смог дотащить до воды. Чудовищных размеров колобки стояли до конца зимы и из всего, что в нашем саду было снежного, таяли последними.
Если быть точным, то детский сад у меня был не один, а два. Первый из них в силу возраста я помню смутно. От этого периода моей жизни осталось, за несколькими исключениями, четверостишие:
Можно было бы только удивиться, что из всех в-лесу-родилась-елочек в голове застряли именно эти строки, но удивляться здесь, собственно, нечему: компостирование мозгов в СССР начиналось еще во внутриутробный период. Текст зацепился в памяти строкой «В рамке зелени густой». Непосредственность детского восприятия не позволяла мне принять эту загадочную рамку, в то время как я видел, что детсадовский Ленин помещался в самой обычной деревянной рамке. До какого-то возраста я еще пытался дать таинственным строкам приемлемое объяснение, перенося, например, место действия в джунгли, но со временем понял, что остальные зарифмованные утверждения были еще более сомнительны.
Два детских сада слились в моей памяти в один, и я не вижу ничего дурного в том, чтобы объединить их и в этом повествовании. Второй детский сад здесь как бы поглощает первый, но имеет, по сути, на это все права. Этот детский сад соответствовал своему названию в полной мере, потому что дети там гуляли в самом настоящем саду.
Для того чтобы в него попасть, следовало свернуть с улицы во двор и, войдя в одно из парадных, подняться на второй этаж. Вход в детский сад открывала обычная квартирная дверь. Дом стоял на небольшом холме, который в условиях городской застройки совершенно не был виден. Между тем, даже закрытый домами, холм оставался на месте и продолжал свое тайное существование. Он открывался лишь тому, кто, поднявшись на второй этаж, выходил с противоположной стороны дома. С этой стороны второй этаж становился первым. И там был выход в сад.
Сад, если мне не изменяет память, был фруктовый, а по периметру его росли акации. Вместе с холмом сад продолжал набирать высоту, но, поскольку дело шло уже к вершине холма, подъем был не очень заметен. По крайней мере, я не помню, чтобы перемещение по саду воспринималось бы как движение вверх или вниз. Именно в этом саду лепили снежных баб – зимой, а летом были другие занятия.
Например, дуэли. Точнее, одна дуэль, разыгрывавшаяся бессчетное количество раз, – между Онегиным и Ленским. Актерский состав был стабильным: я и какой-то мальчик, чьего имени уже не помню. Побывав с родителями на «Евгении Онегине», оба мы были потрясены до глубины души. Любовная коллизия нас оставила тогда равнодушными, но грозное «Теперь сходитесь!» произвело неизгладимое впечатление. В сцене дуэли я, в соответствии с именем, играл Онегина, а мой товарищ (уж не Владимир ли?) – Ленского.
Предполагаемый Владимир был толст и после моего выстрела падал крайне неловко. Он осторожничал, выбирал место на траве и зачем-то хлопал себя по ляжке. Я неоднократно показывал, как ему следует действовать, говорил, что здесь уж не выбирают, куда падать, но всё было тщетно. Покачавшись на полусогнутых ногах, он сначала касался земли рукой, а потом под треск сучьев валился на бок.
Любовную сторону «Евгения Онегина» я открыл уже не в детском саду – как и волшебную музыку этой оперы. Мне купили пластинку, и я слушал ее, пожалуй, чаще, чем стрелялся в свое время с Ленским. Выучив на память все арии, я пел их в меру своих скромных возможностей. И даже сейчас, когда я редко что-либо слушаю (и уже совсем не стреляюсь), после второй-третьей в дружеской компании всё еще могу что-то изобразить. Не уверен, что друзьям мое пение доставляет удовольствие, но на то они и друзья, чтобы идти на определенные жертвы. Корни же этого сомнительного вокала восходят, несомненно, к моим оперным дуэлям.
Нужно сказать, что дуэли относятся к самому позднему моему детсадовскому периоду. Это было, так сказать, верхним фа моего дошкольного существования. Начиналось же всё гораздо скромнее. Первые года два детский сад был главным моим детским несчастьем. Меня там никто не обижал, но нежелание идти туда можно было бы сравнить только с нежеланием идти к зубному врачу. Более того, в рейтинге моих нежеланий зубной уступил бы, думаю, детскому саду, потому что в первом случае это был естественный, но перебарываемый страх боли (в моем детстве не было анестезии), а во втором – непреодолимое отчаяние, непонятное никому, в том числе и мне.
Замечу, что и вел я себя иррационально. Я послушно вставал, умывался, позволял напялить на себя кофту и бесформенные шаровары (помнится зимний вариант) и спокойно, в общем, доходил до двери детского сада. Там я резко разворачивался и продолжал движение уже в противоположном направлении. Когда меня возвращали, я начинал рыдать, упираться и просить не оставлять меня в этом грустном месте.
Всех, кому довелось сопровождать меня в детский сад, изумляло то обстоятельство, что свои демарши я начинал непосредственно перед дверью. Прямо меня об этом не спрашивали (такой вопрос намекал бы на допустимость акции), но косвенным образом интересовались, отчего это мои истерики разыгрываются в последний момент, вместо того чтобы случиться во время умывания или натягивания тех же шароваров. В конце концов, куда лежит курс, мне было известно изначально.
Что мог бы я им ответить? Ну, разумеется, я знал, в каком направлении мы будем двигаться, и тосковать я начинал, едва открыв глаза. Вообще говоря, утро было для меня довольно безрадостным временем. Тьма за окном, пластмассовый голос радиоточки – всё это не прибавляло настроения. Но. Я находился дома – и в благодарность за это готов был пялиться в снежную тьму, слушать радиоточку, да мало ли на что еще был я готов! До сада, думал я, еще много чего произойдет. Так безнадежный больной оставшееся ему время не хочет отравлять истерикой.